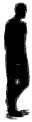 |
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ |  |
|
|
||
|
|
||
Евгений Рейн переживает период молочно-восковой спелости. Нет толстого журнала, который бы его не печатал. В «Московских новостях», еженедельнике для гурманов, — колонка баек Рейна. Фильмы снимают, где в его обществе прогуливается самый знаменитый поэт на свете — и есть ли высший шик для русского поэта, чем во всей славе попирать ногою венецианские мостовые?.. Кто бы мог себе это представить лет тридцать пять тому назад?! Тогда было что: в любой редакции вы натыкались на пару бесконечных ног молодого человека с отсутствующим взглядом, — он пребывал во всех литературных местах разом без всякого видимого эффекта, как и все будущие знаменитости…
Его не печатали почти до пятидесяти. Не печатали, и все, хотя он вроде бы ни в чем не участвовал и ничего не подписывал. Он просто ни к кому не подверстывался, он не подходил тем, от кого зависело — печатать или нет. Пришлось уехать в Москву и там перебиваться поденщиной. В книжке «Береговая полоса» (изд. «Современник», 1989) он обозначен как переводчик народов СССР и зарубежных стран, а также сценарист документального кино. Словом: «Ах, восточные переводы! Как болит от вас голова!» Это был путь многих поэтов, но лишь теперь, когда печатают, оказалось, что пройдет этот, казалось бы, бесславный путь — с честью. В том смысле, что ничего не растеряно. Поэт, а не постмодернистская обманка. Поэт. А какой?
Их сколько было? Бродский, Рейн, Бобышев, Найман — мушкетеры, высоко несшие знамя поэзии. Еще говорили — ахматовские мальчики. Ну, вряд ли у кого сегодня хватит спеси отказываться от высокого ученичества у русской музы, как ее после назовет Рейн. Бродский и вправду был мальчик, а Рейн постарше, хотя и тогда держался как бы на втором плане — не был ни секретарем у великого поэта, ни эпицентром литературного шума, как юный Бродский, вокруг которого кипели страсти. Рейн не был столь публичен, он не раздражал декламацией непонятных стихов, но и не отличался зафиксированной Давлатовым язвительностью молодого Наймана, судившего с крайней строгостью целый свет. Он не имел столь резких контуров личности. При этом занимался теорией стиха, учился и работал, просто жил. И только. Может, это и спасло его от мук растравленного самолюбия, от незатихающей обиды на жизнь, — той несмываемой меты, которой метит судьба других, мечтающих об ореоле гениальности над заурядной головой. О нем и теперь, в его лучшую пору, пишут немного. Это понятно: он сам по себе. Его не причислить к какой-то группе, течению, не приписать к стае. Для удобства его подверстывают к Бродскому. Но делается это для читателя — ведь про Бродского все наслышаны. А по сути, если может быть сравнение, то только отрицательное. Если Бродский — дух отрицания, дух сомнения, то Рейн — как раз обратное, что редко в наши дни.
Он любит жизнь грустной любовью мыслящего человека. Он привязан к своей судьбе, ни от чего в ней не отказывается и не клянет прошлое за то, что оно ушло. Он не клеймит людей за то, что дороги разошлись, и не поливает презрением мир Божий за его несовершенство. Он элегичен от природы — в наш иронический век эта позиция весьма уязвимая. Он толерантен по формуле крови. Это не конформизм, это уживчивость — качество, странное в поэте. Но над ним не тяготеет проклятие, над его — ныне уже седой головой расчищен приватный клочок голубого неба. Может, он это и заслужил? Так что дружба дружбой, а рабочее место — врозь. И очень далеко врозь.
В своем интереснейшем интервью Татьяне Бек Рейн ответил на вопрос о том, насколько верно говорить, что он был учителем Бродского: «…в нашем литературном кружке я действительно был главным теоретиком». Учитель! Нет, Рейн не берет на себя такую ответственность, но и не увиливает: «Удивительно, как точно запомнил Бродский многие те мои слова и мысли, рассуждения». И все. Нет, он знающий друга своей юности как никто, не греется в лучах его славы, не ведет ей счета — не завидует. Он помнит все и всему знает цену: «В истории русской поэзии нет, пожалуй, другого случая всеобщего признания. Бродский получил все мыслимые награды Запада, не проходит и полугода, чтобы он не взошел на новую ступень. А началось-то все с бездны советского литподземелья. И лестница, по которой он взошел, кажется особенно крутой и впечатляющей». Так жили поэты… А все же, сколько ни кружи возле этих судеб, у самого корня они связаны — той самой бездной советского литподземелья. Им обоим удалось вырваться оттуда, не погрузиться в андерграунд, не налиться злобой непризнанных гениев. Дороги разошлись рано, — путники уж очень разные. Но общее — осталось. Рейн никогда не желала себе чужой судьбы. У него своя, и он делал ее терпеливо и с тем мудрым смирением, которое, кажется, уже вовсе забыто в нашем веке. Судя по разбросанным по стихам подробностям, он никогда не стремился к святости, но иерархия ценностей была ясной. Она не нарушалась. Он объясняет это умение не опускаться ниже ватерлинии по-своему: «…начиная лет с двадцати пяти, постоянно готовились к печати мои циклы и даже книги, но все это раз за разом рушилось. Больно было именно в моменты крушений… Но и впрямь в моей натуре есть странная легкомысленная мудрость, которая одновременно и губительна, и спасительна. Я не умею надолго задерживаться на провалах, душа закрывает глаза на зло, не в моем характере оттачивать внутренний нож».
Итак, горечь — краска, чуждая поэту. А какие же краски — его? Можно сказать, что главная из них — ностальгия. Ностальгия по шестидесятым, откуда он родом, и разом по всему: по юности, по раннему братству поэтов, по минувшей любви, — да по самой материи первоначального знакомства с реальностью. Сладкая тоска по старым мостикам и монументам, по улочкам и тупикам, по мастерским живописцев и захламленным комнатам в коммуналках, где жарко спорили, пили дешевое вино и любили девушек. Кое-какие мечты этого бытия отыскиваются в рассказах Довлатова, но там свет и тени положены иначе. Довлатов — иронический скептик, а Рейн, как это ни диковинно звучит, Рейн — романтик. В том смысле, что лелеет в памяти свою малую родину во всех ее подробностях, будь то ленинградские каналы или московские дворики. Все это имущество обозначено в его творчестве. Топографические детали важны для него, потому что они окутаны эмоциональной памятью: что пережито у той решетки, у тех ворот, что было сказано на остановке троллейбуса или на ступеньках лестницы. В его стихах чувство, давно пережитое, трепещет живым, на него накладывается сегодняшнее, сплавляется с прошлым, образуя золотистое марево вокруг прозаических наплывов асфальта и обшарпанных стен. Романтик: хранит как величайшие драгоценности обрывки былого, помнит свои переживания и не роняет память о юной любви и юных ошибках в пыль быта и разочарований. Быт и разочарование есть у всех, а память о жизни души — у поэта. Его печали, его надежды, его задыхания и восторги — они ему дороже всех сокровищ, и это и есть романтизм.
И эта окраска мира помогает ему не обращать внимания на новейшие моды поэтического рынка: тотальное осмеивание и огульное отрицание устойчивых ценностей. Мода — модой, а Евгений Рейн идет своим путем. Он не склонен к деструкции по манере мышления, незлобив в силу природного устройства — такой, и все. И то, что он пишет, — конструктивно. Или, как раньше говорили, — жизнеутверждающе. Ну да, такое немодное слово, такое несовременное. Да что поделаешь! Белинский вон сказал, что Пушкин исписался, когда вышли сказки. Тютчева не замечали. И параллели тут нет, — просто соображения: не всегда современное — это высокая оценка, и не обязательно старомодное — это устарелое. Иные поэты думают, что если не ставить запятых и употреблять ненормативную лексику, то вырвешься вперед и обойдешь соперников на целый корпус. Но поэзия — не гонки, и Пегаса подгонять бесполезно. Каждый Пегас скачет на той скорости которая ему от веку задана.
Муза Рейна — муза скорее классическая, нежели богоборческая. После периода белого стиха он вернулся к рифмованному, но различие непринципиально. Он тяготеет к поэме, к эпичности, но при этом поэмы у него недалеко ушли от стихотворений, стихотворения, если сложить их со знанием дела, ложатся на бумагу в виде глав некоего романа. Рейн между делом поминает Б.Слуцкого как почти единственного поэта из «советских», к кому Бродский уважительно неравнодушен. Без сомнения, Рейн учел поэтический опыт Слуцкого, его открытия и его построения и претворил все это по-своему. Эпичность — это его метод уловления искр поэзии. Его стихи — это нечто вроде мини-романов, где прослежена чья-то судьба: няни, соседа по коммуналке, ювелира, девушки по имени Нинель, деда и бабки, что лежат на Преображенском кладбище под черным лабрадором, — чужие эти судьбы, небогатые, неэкзотичные биографии интересны поэту, он ощущает их частью своей жизни, он проживает их вместе со своими героями. Рейн — добросовестный, способный и смелый ученик. Отзвуки латинской бронзы живут в его длиннострочных стихах, и у Ахматовой он учился белому стиху, и экспрессивной повествовательности у Слуцкого, но есть вещи, которым выучиться нельзя. Они заложены изначально. Рейн достаточно отважен, чтобы не стремиться стереть все следы ученичества. Но все же организует его творчество не то, чему он мог научиться, а прирожденные свойства его поэтического существа. Он незлобив — в век, когда так модно быть злей цепной собаки. Незлобив — в век, когда вдруг получили приоритет свинчатка и нож — даже на журнальной странице… Все эти люди, о которых он пишет, — это просто люди, ничего в них нет особенного, и память о них согревает сердце. Никаких обличений. Никаких определений. Просто люди. Поэтому он и повествователен. Ему хотелось бы остановить мгновение, чтоб, как муху в янтаре, задержать в строке милый подробности минуты. Ему хотелось бы собрат под обложкой профили, едва мелькнувшие предметы моды, едва расслышанные реплики, происшествия, не ставшие событиями. Ему не хотелось бы отдать воде забвения ничего. Поэтому в его стихах так много предметов. Он хотел бы запомнить и закрепить все и всех. Он — воспеватель своих шестидесятых, золотых мальчиков в их начале: «Теперь-то я знаю — тут все случилось, и легли отсюда на будущее тени». Но это не эгоцентрическая память поэтов, которой дано вращаться вокруг одного лица. У памяти Рейна много лиц. И, прежде всего — это они, юные, стоящие на распутье. Тогда они все были гении, эти нищие студенты, неизвестные поэты, робкая богема. Теперь-то все знают, кто есть кто, но ведь было начало! И вот он, автопортрет тогдашнего Рейна:
...Еврейский мальчик, сызмала отличник,
насобиравший сто похвальных грамот
и кавалер серебряной медали,
способный, умница, любимец деканата,
уже открывший пух и прах карьеры,
уже отпивший мутного портвейна
хрущевской оттепели,
сочинитель легких
и нервных молодых стихотворений,
где размешались кровосгустки джаза
на ленинградской мертвенной водице,
где западные узкие наклейки
перешивались на шевьот советский,
но вовсе не стихами, а стежками
суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась.
Но это портрет, скорее групповой, теперь их не расцепить — где тут суровая проза, а где легкий вымысел, да и важно ли это, когда все так схоже? Один из тех мальчиков уехал навсегда, другие свободно пересекают границу, и лишь один Рейн остался бесповоротно, хоть и случается ему посетить такие райские, для прежнего невыездного, места. Суровая рыхлая (лукаво сказано) проза в его стихах притворяется вот-вот зачерпнутой со случайного места, а на самом-то деле отобрана каждая крупинка. И то, что так лукаво притворяется прозой, — уже поэзия, тесно сомкнувшая слова и разместившая их в полном равновесии. Если великий поэт находил поэзию в траве, то городской житель Рейн, дитя кирпичных брандмауэров и душных коммуналок, легко отыскивает сияющие искры среди булыжников и асфальта. И тесная заселенность его стихов вещами — не из любви к их годности, функциональности. Нет, вещи — шляпка, чемоданчик, справка — это следы эпохи, его заметки на ткани бытия. Ему и коммуналка — не Ад, а способ существования. Был и такой:
…кто эту жизнь отведал, тот знает, что — почем.
Почем бутылка водки и чистенький гальюн.
А то, что люди волки, сказал латинский лгун.
Они не волки. Что же? Я не пойму, Бог весть.
Но я бы мог такие свидетельства привесть,
что обломал бы зубы и лучший богослов.
И все-таки спасибо за все, за хлеб и кров
тому, кто назначает нам пайку и судьбу,
тому, кто обучает бесстыдству и стыду,
кто учит нас терпенью и душу каменит,
кто учит просто пенью и пенью аонид,
тому, кто посылает нам дом или развал
и дальше посылает белоголовый вал!
Поэт не настаивает ни на чем, он полот терпения и терпимости, просто ему смута и сутолока, бессмысленная жестокость не мешают видеть те начала Добра, без которых спешат обойтись иные торопливые граждане… У поэта — земля устойчива, и стоит — на Добре. Бродский заметил, что, когда он попал к Ахматовой, он был просто шпана. Он имел в виду тот уровень знания и понимания основных законов бытия, на котором он, мальчик, тогда находился. Этим признанием он как бы приносит венок на могилу в Комарове, скрепляет связи времени и культуры. Такое признание, видимо, мог бы сделать и Рейн. Можно сказать, им повезло, этим ленинградским мальчикам, в ранней юности приобщиться к вершине русской культуры. И сегодня поэт Евгений Рейн закономерно может рассматриваться как явление культуры. Он вырос не из сырой земли и не из босоногого детства, а из окультуренной почвы, из широко и глубоко воспринятой литературы. При этом он рано следовал завету Заболоцкого «Любите живопись, поэты» — не по ученическому почтению, а по душевной склонности, понимал кино как искусство, что, кстати, облегчило ему тернистый путь сценариста. Сам запах мастерской живописца был ему сладок и приятен, и имена кинозвезд минувшей поры в его стихах — не дань забытому времени, а память о собственных привязанностях. И он знает, у кого учился, и вполне осознанно не дает порваться связи времен. Слуцкий когда-то горестно написал: «Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги», — Рейн пишет о мертвых, как о живых. О том, как начинающим попал к Слуцкому и Мартынову, и они приняли его как свое будущее. Он из тех, кто крепко помнит свое родство и с годами не освобождается от уз дружбы и ученичества. Посетив комаровское кладбище, он склоняется над могилами друзей, собратьев и над великой могилой с обещанием: «то, что будет еще, навсегда упомянуто». Он хорошо знает, откуда он произошел. Вспоминая свой первый визит к Ахматовой, он возвращается в юность: «как страшно приближаться к русской музе», особенно если видишь за ее спиной поколения стихотворцев, ставших воздухом русской культуры. И отзвуками пушкинского гения бронзовеет строка «и тяжело пожатье и всесильно». Это посещение было встречей с самой судьбой русского поэта: «теперь уже Она вас никогда не пожалеет». Он прикоснулся к Музе, Муза коснулась его, — в путь!
Предыдущим поколениям, тому же Слуцкому, было в известном смысле легче, проще: поэзия стала для них лекарством от сталинизма, ибо требовала всей правды без обмолвок и оговорок. Ни Бродскому, ни Рейну не пришлось истреблять в себе приверженность идеалам социализма: у них ее никогда не было. Их подстерегала другая опасность: опасность — раз так! — разувериться в самих основах бытия, погрузиться в беспросветность. Рейну удалось этой опасности избежать. Скепсис ему чужд, как чуждо гибельное отчаяние. У него другая природа. Бродский еще в юности пообещал приехать умирать на Васильевский остров. Рейн не обещает, для него это само собой разумеется — далеко ли ему ехать? Он здесь живет, здесь прописан и, сколько бы ни колесил по миру, всегда возвращается. Он перелистывает свои воспоминания, путешествуя во временах, от Древнего Египта до нынешней Ордынки, и только годы добавляют печали, потому что привязанности чаще заставляют сердце кровоточить и порождают печали, утяжеляющие жизнь. Печаль Рейна — это печаль, а не трагедия. Он элегичен: «Но пока при тебе, в этом мире ни пощады, ни выбора нет», «То, что было, все же было», «Вот и все. Я стар и страшен, только никому не должен». У элегии привкус пепла — так много уже унесло ветром, так много позади! И все же он держится на плаву, и держат его — и чувство юмора, постоянное, хотя часто приглушаемое другими мотивами, и романтическая любовь, всегда в прошедшем времени, обозначенная деталями: шляпкой, размытыми красками утра в раме окна, зыбким отражением в воде канала. Любовь, в которую так легко не верить, так легко утопить свои неудачи в мутном тумане дешевой бравады! У Рейна она по-прежнему та же — в шелках и перчатках романтической драмы. Он не сдает позиций — и это позиция.
Прилежный ученик Пастернака, Рейн находит свою позицию не в траве, а на асфальте. Он сопрягает вещи, казалось, несопоставимые с легкостью, какая дается только таланту: пьянки и гальюн — но трубы и флейты, подворотни и пакгаузы — но хоралы и треножники, футбольная защита и пионерские линейки — но Державин, и Кузмин, и Сологуб. Сутолока и толкотня переходов в метро, сумеречные переулки и грязные брандмауэры, гомон толп и одинокие прогулки — все это уживается под обложкой. И праздники, праздники со знаменами и портретами, и многолюдье, и чувство локтя в колоннах — праздники той далекой поры, когда еще не соединяли в уме одно с другим, еще не сопоставляли, а просто весело шагали по Невскому:
Зачем же врать — я шел со всеми,
Безумен, счастлив, неуклюж.
Со всеми! Было такое дело! И из песни слова не выкинешь, и ни от каких полос биографии поэт не отказывается и не отворачивается. Только ведь не может этого всего быть больше — ни счастливого неведения, ни бездумного единения, и от этого голос наливается печалью, все более весомой с годами. И когда поэт заявляет:
Вижу, вижу все воочью,
Что хотел, и чем не стал, —
он не упрекает никого, кроме себя. Он знает, что любой путь — и праведный, и бесчестный — равно ведет к проигрышу, и все жалобы — лишь себе самому. И все же былое не отпускает, и мотив возвращения в опустелые аллеи юности становится одним из ведущих в поэзии позднего Рейна:
Теперь уже не собраться на Троицкой и Литейном,
Молчат телефоны эти, отложены рандеву…
………………………………………………..
Когда мы сменяем кожу своих обид заскорузлых,
У нас остаются только наши общие сны.
Общие сны! Общность. Это самый важный довод Рейна. Он держится своих былых привязанностей — во всяком случае, сны имеют над ним романтическую власть, и он признает со смешанным чувством гордости и сожаления. Тепло прежних дружб не выветрилось, оно живое. И секрет общности открывается:
Мы думали: все еще будет, а вышло, что все уже было.
И, глядя на знаменитую фотографию похорон великой поэтессы, он не только скорбит, он еще и воскрешает:
И вы, друзья последнего призыва,
Кто разошелся по чужим углам,
Еще вот здесь, на этой ленте, живы,
Еще шумит, галдит без перерыва
Немая речь с подсветкой пополам.
Да, жизнь грустна, это чередование встреч и потерь, и с годами потерь все больше, а встречи переходят в область снов. И сквозь оболочку ироничного, сдержанного, чуть снисходительного джентльменства горячо прорывается накопившаяся боль:
А я стою и плачу. Что знаю, что я значу?
Великая судьбина, холодная земля!
Все быть могло иначе, но не было иначе,
За все ответят тени, забвенье шевеля.
Это стихотворение называется «Преображенское кладбище», но слезы — не ритуальные. Плач по загубленным, и по тем, кто сам себя загубил, и по тем, с кем навсегда расстались, и по тем, кто, казалось бы, счастлив и доволен. Плач по жизни, которая уходит, и по тому, что река жизни уносит неостановимо…
Тайны поэзии неисповедимы. И никакие признания поэтов не освещают их темнот. И не распутаешь невидимые нити в ясных, хорошо освещенных параметрах рассудка. Почему простые приметы нашего быта, привычные предметы и заурядные поступки у Рейна пресуществляются в чистые высверки искусства? Так уж вышло, так оно есть, и так оно — хорошо. Для нас, читателей.
Бахыт Кенжеев («Знамя», 1995, № 9) в рецензии на книгу поэм Рейна снисходительно замечает, что он охотно представляет себе эти поэмы прочитанными на московской кухне под бутылку водки. А где надо читать поэмы? В Большом зале Филармонии? На сцене МХАТа? Рейн демократичен. Он обращается к своему поколению, не деля его на избранных и незванных. А вот рецензент, видимо, все же делит, иначе откуда бы в его текст проскользнул эпитет «простые стихи» по отношению к Рейну? Кенжеев похлопал старшего собрата по плечу, а ведь, в сущности, его барственные полупохвалы — вынужденное признание значительности поэта другой ориентации. Но при всей своей простоте Рейн все же — поэт не для всех. Лишь для своих читателей. Для тех, кто не теряется от его прозаичности — щитом, выставленным вперед для отражения вражеской насмешки. Запоздалый шестидесятник, он верен дружескому кругу и — кругу дружественных идей. Хотя ветер перемен подчас и врывается на страницы.
Снисходительность Кенжеева сродни тому незаинтересованному молчанию, каким обходит Рейна молодая критика. Она думает, что свободна, но это та же несвобода, какая была до перестройки. Только тогда критик не имел возможности хвалить Бродского и высказать свое истинное мнение о Егоре Исаеве, а теперь критик не должен высказывать своего мнения о поэте не из этой стаи. Где же свобода, о которой так пекутся люди, родившиеся после 5 марта 53-го года? Чувство превосходства над «стариками», над «простой» поэзией, над всеми, кто мыслит иначе, отделяет новую литературную генерацию от прочих. А Рейн по доброй воле связан — со своим временем, с друзьями и погодками, с поэтами и соседями по коммуналке, с загадочными девушками былого и кинозвездами пятидесятых. Он не боится быть самим собой, не позирует и не заботится так болезненно о том, что скажут. В далекие времена это качество носило название «цельность». Может, поэтому Рейна и цитировать трудно — трудно извлекать ключевые строчки. Он вообще не работает на ударную строку. Его стихотворение — единый организм, живущий по своим законам, он не поддается членению. Напротив, стихотворения, едва услышишь их внутреннюю речь, легко выстраивается в цепочку, следуют одно за другим, сцепляются. Они образуют то ли поэмы, то ли циклы, а скорее всего — страницы одного длинного романа прожитой жизни с ее горами и долинами с ее потрясениями и прозрениями.
Но иногда все же чистый тихий голос поэта обретает металлические, механические нотки, и поэта заменяет маэстро. Он все умеет, но помните, как Пастернак ответил на настойчивые увещевания Хозяина: не в этом дело! Когда начинаешь чувствовать мастерство, это значит — отхлынуло вдохновение. Оттого ли, что юность прошла здесь и сейчас, чаще всего сбои настигают Рейна в его заграничных циклах. Уж очень много там наезженных дорог, не так хорошо знакомых, как Маросейки и Петровки. Вот там впечатление цельности иногда уходит. При том, что Рейн ощущает себя в русле европейской культуры, трюизмы его подстерегают. И в римском кафе он, конечно же, встречает Гоголя, а в другом — конечно же, Хемингуэя, миф шестидесятых. Но эти призрачные свидания давно стали общим местом в отчетах наших путешественников, и пусть бы там и оставались. А ведь есть и сильные вещи, например, заключенная в послание к старшему собрату благодарность — за то, что тот связал Вифлеем с Синаем и чеканную поступь Серебряного века с тусклой тьмой, поглотившей последующее поколение. Так что, наверное, дело не в материале, а в степени эмоционального переживания каждой минуты бытия — разумеется, в молодости реакция острее, и стертый булыжник в заштатном переулочке больше скажет сердцу, чем пышные порталы прославленных соборов…
Когда-то Евтушенко, по воспоминаниям Рейна, сказал ему: «Если бы можно было понять, почему тебя не печатают, то была бы разгадана загадка советской власти в литературе». Сам Евтушенко немало бился над разгадкой, и трудно сказать, что она ему дала. Но вот советской власти нет, нет цензуры, почти отпал институт редактуры, но трудности у художников остались, и не все они — внутреннего свойства. Внешние трудности уже не существуют для Рейна, ставшего мэтром. А без внутренних творчества не бывает… С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой. И чем дольше они длятся, тем длиннее жизнь таланта. И тем более велики заслуги, если вспомнить, сквозь что пришлось пройти. Вот оно, это прошлое: хрестоматийная фотография — похороны Ахматовой. Бронзовый профиль в гробу, а у бортика — вот они, мало кому известные: Арсений Тарковский, переводчик восточных стихов, Лев Гумилев — просто сын поэта и поэтессы, хмурый Рейн, плачущий Бродский, связанные скорбью и растерянностью. Сегодня Тарковский и Бродский — в Пантеоне русской словесности, Гумилев — звезда на научном небосклоне, Рейн — стал мэтром. Но вот тот хмурый парень у гроба — он навеки запечатлен в том своем существовании, когда ничего не было, кроме любви к русской музе и честного ей служения. Еще не было ни признания, ни путешествий, ни наград. Но поэт — он этих минут не забывает, они, став прошлым, остались живыми. Шестидесятники подавали руку будущему — и оно настало.
"Нева", 1996, № 2.









|
Партнеры: |
| Журнал "Звезда" | Образовательный проект - "Нефиктивное образование" | Издательский центр "Пушкинского фонда" |
| Support HKey |