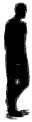 |
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ |  |
|
|
||
|
|
||
5 марта
Когда на Головинском кладбище
Мы все сойдемся в этот день,
И воздуха литые клавиши
Отметят сумрачную тень.
И тусклый свет перед иконами
Проявит желтый огонек,
И дьякон с низкими поклонами
Подаст всесильный голосок.
А в ризе батюшка белеющий
Спиною повернется к нам,
То всякий рьяный и болеющий
Вдруг поглядит по сторонам.
И малые огарки жжением
Тотчас нам пальцы припекут,
С испугом или напряжением
Мы понимаем — Анна тут.
Она стоит в весенних сумерках,
Где что-то шепчут и молчат,
А для особых неразумников
К устам подносит белый плат.
Когда ж молебствие кончается,
Она заходит за престол,
И к Михаилу наклоняется,
И разделяет общий стол.
И тут за щедрою закускою,
Когда ей прощены грехи,
Она с понятливостью русскою
Читает старые стихи.
От Царского Села до Лондона,
От Крыма и по Палатин,
Среди предчувствия холодного
Мы понимаем знак один.
Еще одна минута благости,
Еще один, последний, плач,
И наши горести и радости
Уйдут за пламенный кумач.
* * *
Опрятный столик на веранде,
на выбор и «бурбон» и «скотч».
«Ах, перестаньте, перестаньте,
мне это выслушать невмочь!
Что все ушло в песок утоптанный
на городском бесплатном пляже,
а все родное, все удобное
я погубил в ажиотаже.
Все ожидания и выкрики,
твои несносные объятья,
и курточку по старой выкройке,
и гладью вышитое платье.
И запоздалые признания
в осеннем парке на скамейке,
и зов проклятого призвания,
и чемоданные наклейки.
И то, что больше не воротится,
что было и не стало нами,
как предсказала Богородица
в кладбищенском и тесном храме».
* * *
В тот давний день мелькал неверный свет,
отброшенный пустой волной залива,
и оба вы, которых больше нет,
на палубу глядели сиротливо.
Мы возвращались в город катерком
и никуда, по сути, не спешили,
и было нам поговорить о ком
и — чем, пока еще вы жили.
Но вы молчали, словно угадав
свою необъяснимую заминку,
и этот летний день, что кенотаф,
остался с вами навсегда в обнимку.
На набережной тлели фонари,
и вот тогда я понял безответно...
«Ну, что же ты, давай, заговори!» —
я сам себя подталкивал. Но тщетно.
Каток в Центральном парке
Каток в Центральном парке
Лежит в низине ровной,
И воздуха помарки
Дрожат мазуркой дробной.
Мелькают конькобежцы —
Все мельче и крупнее,
То медленней, то резче,
Слабее и сильнее.
Они скользят, как могут,
За снежными штрихами,
Они берут за локоть,
И плавают кругами.
Как будто бы с охоты
Они спешат до дома,
Как будто бы доходы
Зависят от разгона,
Как будто в темнотище
На них огни играют,
Как будто снега чище
Рисунок повторяют.
И шапочки, и платья,
Изводит свет на конус,
И скорые объятья
Разводит темный космос.
И вырастает в парке
Искусства верный стебель,
Как будто бы в запарке
Нарисовал их Брейгель.
Магазин «Русская деревня»
В магазине «Русская деревня»
На иконе древней Демиург.
Все, что избежало истребленья —
Дореволюцьонный Петербург.
Рамки серебра и палисандра,
И фарфора золотистый край,
Что произошло от Александра,
Горестно прикончил Николай.
Ордена и шифры, и погоны,
Нимфы в предрассветном неглиже,
Все, что изготовили для трона
Ювелиры фирмы Фаберже.
Все, что было роскошью и негой,
Все, что отливало синевой,
И дворцовою библиотекой
В городе над Мойкой и Невой.
Что ушло на дно имперской бездны,
Уплыло на русских кораблях,
Стало дорого и бесполезно,
Словно мир, поверженный во прах.
И теперь, когда банкир и жулик
Примеряют бронзу и ампир,
Курят императорский окурок,
Носят императорский мундир.
Слышу я архангельское пенье,
Никого на свете не виню
В магазине «Русская деревня»,
Где-то на девятой авеню.
Музыка
На изгибе улицы парижской,
И на финской каменной гряде,
Ты была далекой или близкой,
Но не оставляющей нигде.
В ресторанном затемненном зале,
От тебя живился алкоголь,
И ладони женские бросали
Розы, деньги, раковины, соль.
И в полночный час, когда на смену
Тучам пробивается звезда,
Воспевала верность и измену,
Но не отступала никогда.
Положивши голову на деку,
Смертный пересиливала гул,
Мрачно подпевала человеку,
Если он с «Титаником» тонул.
Никакой не брезговала пьянкой,
На земле в последний бой вела,
Ты была и скрипкой и шарманкой,
Замыслом космическим была.
И бывает: средь толпы безумной,
Я к тебе прислушаюсь и — вот:
Мне приказ ударный или струнный
Не спешить и сделать поворот.
И тогда один в широком поле
Слушаю твой праведный прибой —
То, что мы вдвоем перебороли,
То, что мы решили меж собой.
* * *
Над всей Голландией безоблачное небо,
и рыбки плавают в искусственном саду,
и бабочки ныряют в высоту,
но кайфа нету.
Велосипедное звенит, гуляет море,
оранжевый кидается футбол,
но это все-таки совсем чужой глагол —
Урания не пара Терпсихоре.
И глядя на расплавленный кристалл
цветного льда в оттаявшем стакане,
я понимаю все это заране:
как мало жить и как я не устал.
Нищая собака на Стрэнде
На Стрэнде нищий сидит с овчаркой
В приличной робе, как бы не маркой,
В руках стаканчик, а в нем монеты.
А Стрэнд опасен как воды Леты.
На нем направо стоят отели,
А там, напротив, уже бордели,
Вот здесь ботинки — сто сорок фунтов,
А там, напротив, чучмеки в унтах.
Овчарка лает, овчарка просит,
И лай к отелям норд-вест относит,
И эта сволочь, банкиры мира,
Не подают ей на ломтик сыра.
А я, имея четыре фунта,
Монетку бросил в начале бунта.
Мы вас доставим на гильотину,
Мы вас заставим крутить плотину,
Вам мало Ленина и Робеспьера?
У нас в запасе иная мера.
Иная мера делить излишки,
Мы доведем вас до самой вышки,
До самой вышки в подвалах наших,
Мы вам припомним живых и павших.
Давай, овчарка, завой страшнее,
На бельэтажи и эмпиреи,
Давай, мой цербер, давай, родная,
Свой лай в истерику перебивая.
Все это наше, а вы — подонки,
Мы вас прикончим под вой трехтонки,
Мы все захватим, мы все поделим,
На нашей мельнице всех перемелем…
Глядит овчарка на идиота,
Уже и сыра ей неохота.
И говорит мне: «Шуми полегче!
Что разошелся ты, человече?»
Я отвечаю: «Оппортунистка!
Ведь ты — собака, ведь ты — не киска!
Революционный держи характер,
Пусть буржуазный умрет каратель!»
В глазах собаки печальный ужас,
Тихонько воет она, напружась:
«Возьми обратно свою монету,
от провокаторов спасенья нету.
Ты, верно, спятил в своей России!»
………………………………..
Тут перешел я к буржуазии.
* * *
Я полюбил НКВД
любовью поздней и взаимной,
теперь мы с ним наедине
в какой-нибудь прогулке зимней.
Я на Лубянку выхожу
и вижу темную громаду.
Здесь к неземному этажу
свободно подниматься взгляду.
Вот этот темный кабинет,
где обитают пять наркомов,
и здесь они, и как бы — нет —
среди убитых миллионов.
От Кампанеллы до Христа
Утопия ждала Мессию,
чтобы допрос читать с листа
и веки запечатать Вию.
Зачем Дантон и Пугачев,
и теорема Пифагора
сошлись под этот тяжкий кров?
Для вопля или разговора?
Неужто римлянин и скиф,
апостол Павел и Аттила
творили бесконечный миф,
чтобы наганом били в рыло?
И вот одна лишь темнота,
пустой морозный крематорий,
и всем погубленным — тщета,
сгубившим душу — суд нескорый.
И потому они молчат,
и бронзовеют год от года,
лишь тяжко дышат в аппарат
Ежов, Дзержинский и Ягода.
А я? Мне поместиться где?
В каком окне, в каком подвале?
Я полюбил НКВД
за вечный мрак его печали.
Под новогодний холодок
ступаю я в тени Лубянки,
как вурдалак и полубог,
зародыш, позабытый в банке.
Рыбный рынок в Нью-Йорке
Лежит распластанная камбала
На рыбном рынке у Нью-Йорка,
И километр угря галантного,
И устриц каменная горка.
И лососина с осетринами,
И каракатицы, и раки —
Они за темными витринами
Купаются в уютном мраке.
Соседствуют тунцы с акулами,
Кальмары обвивают стенку,
И с обитателями снулыми
Лежат ракушки впеременку.
И все, что океан утаивал,
И все, что сохранили трюмы —
Чешуйчатый, зеленый, палевый,
Веселый, белый и угрюмый, —
Весь этот мир на рыбной пристани
Доставлен к нашему застолью,
И с плавниками серебристыми,
И золотой и слабой солью.
«Серая борзая»
Автобус «Серая борзая»
Летит в туманный окоем,
Он, километры пропуская,
Спешит во тьму неярким днем.
Он пересчитывает штаты,
Несет бензинный перегар,
Нет расстоянию пощады,
Он страшен, как лесной пожар.
Он мнет шоссе пустую ленту,
Летит и прямо и в обход,
Но уступает конкуренту,
Когда тот вихрь или доход.
Он все вывозит и выносит,
Сдает пространство он в утиль,
Но эта скорость, словно проседь,
Неотвратима, словно пыль.
Крута его высоколобость,
И грязь его, что мезозой,
Недаром голубой автобус
Прозвали «Серою борзой».
Спичечный коробок
Приходи к «Флориану», когда стемнеет,
Слышишь, ветер с лагуны вовсю сатанеет,
Но оркестр сквозь порывы играет Шопена,
Вот теперь и обсудим мы все откровенно.
Лев читает нам книгу с невысокой колонны,
Лодки бьются о пристань и считают поклоны,
И последний прохожий пропал за Сан-Марко,
Начинается ночи немая запарка.
Видишь, купол над нами все тяжеле и уже,
Флориановы тени во тьме разутюжа,
Ночь приходит из нашей с тобой половины.
На стене Арсенала Алигьери терцины.
Ты — из ближней могилы, я — из давней мороки,
Значит, ныне сбываются судьбы и сроки,
Значит, призраки есть, как сказал Свидригайлов,
Это факт, а не выдумка бешеных файлов.
Рюмка «граппы» и чашечка черного «мокко»
Объявляют, что ты появился с Востока
Вместе с бледным рассветом, ленинградским загулом,
Вместе с давним дружком косолапо-сутулым.
Так разделим священную дрожь алкоголя
И ожог кофеина — на все твоя воля,
Тут петух не споет, и сосед не заплачет,
Только школьник наш впрок твои рифмы заначит,
Перепутает строфы, перепробует строки,
На полях Елисейских всем нам хватит мороки:
Все поставить на место, погрозить неумехам,
Плагиаторам и соглядатаям-лохам,
Веницейское время кончается скоро,
Адриатика ночью — что затычка простора,
Этот город — тупик, ну и слава же Богу,
Что не надо опять собираться в дорогу.
От собора, Пьяццетты и до Арсенала
Ровно столько шагов, что ни много, ни мало,
Так пойдем, поглядим, если спросят — ответим,
Словно в том гастрономе — не будешь ли третьим?
Но быть может он нам и протянет монету,
Если что — мы заплатим, ведь бывает, что нету.
Но, похоже, он с нами вовек расплатился,
Так давно, далеко — даже голос расплылся,
Долетавший до нас. Помнишь озеро Щучье?
Там аукалось в соснах тройное созвучье,
Там с тобой мы брели по дороге на «будку».
Вот и кончилось лето по тому первопутку.
Вот и вспыхнул огонь на корме электрички,
Словно в темном углу обгорелые спички.
Старое кино
Гангстеры в отглаженных костюмах
Томно восходили на экран,
В этих фильмах старых и угрюмых
Рокотал Великий океан.
Проявлялись черные на белом,
На врагов глядели свысока,
Вскидывали тяжкий парабеллум
И потом стреляли от виска.
Эти девки в серебристых платьях
Падали в широкую постель,
Эти безработные в заплатах,
Нежного заката акварель.
На другом конце земного шара
Мы смотрели старое кино,
Отблески «Чикагского пожара»
Прожигали наше полотно.
И тогда великий Хамфри Богарт
Уходил в предательский туман,
Или Чаплин танцевал под хохот,
Или Киттон двигал чемодан.
На другом конце земного шара
Каждого охватывала дрожь, будто чья-то правда побежала,
будто чья-то погибала ложь.
Трубная площадь
Там две горы. Одна к другой идет.
И между ними — улица распадом.
И сколько бы не стоил переход,
Он ерунда, когда тебя нет рядом.
Я прожил здесь военные года,
Я помню «мессершмиты», помню «тигры»,
Я помню, как сдавали города,
Как Химок немцы в октябре достигли.
И помню я сорок четвертый год,
Медаль «Освобожденье Будапешта»,
Через бульвар натоптанный проход,
Где было облюбованное место.
Там торговали сладенькой водой
Под именем любимым «газировка».
И прятал лейтенантик молодой
В карман купюры, сложенные ловко.
Я помню «Парк культуры», где стоял
Немецкий танк с пробоиной корявой,
Я помню, как на Киевский вокзал
Пришел победный эшелон со славой.
И вот теперь в разъезженном такси
Мы с горки забираемся на горку.
И сколько ты не плачь и не проси,
Мне не уехать к твоему Нью-Йорку.
Поскольку все со мной случилось здесь,
Печатников зияет переулок,
На эту гору скудную залезть —
Есть лучшая из мировых прогулок.
Ведь снова жизнь не спеть, не повторить,
Она нас настигает и пленяет.
Ну, чем меня ты можешь одарить?
А прошлое вовек не изменяет.
Угол Фонтанки и Международного
Там, где проспект скрещается с рекой,
где старый сад и солнечная тумба,
пора и мне, должно быть, на покой,
тем более, что это так доступно.
Когда бы досидеть до темноты,
вот-вот сойдут на нет дневные пятна,
и увидать, что это — точно, ты,
в песочнице копаешься опрятно.
Заговорить: «Ты узнаешь меня?
Лет шестьдесят — не столь большие сроки,
и все-таки, колени преклоня,
сумел прожить я без твоей опеки.
Мне было пусто, каторжно, темно,
все отступало — истина и вера.
Я столько лет глядел в твое окно
и ждал, когда поднимется портьера.
И под закатом, отгоревшим в медь,
когда от жизни остается нежить,
сейчас меня ты можешь пожалеть
и, если хочешь, попросту утешить.
Поскольку ты, конечно, это — я
на детской неприкаянной площадке.
И прорицая, бедствуя, кляня,
Я — это ты. И все. И взятки гладки».
Хитроу
«Конкорд» клюет над Хитроу,
английское утро промыто.
И кажется мне порою,
что я дошел до лимита.
Что все, как у рака, в прошлом,
а здесь только ланч с «маргаритой».
Я стал не дохлым, а дошлым
с полузабытой обидой.
Я стал не умным, а ушлым,
сменял овцу на корову.
Могу атлантическим утром
Спокойно взлететь над Хитроу.
Курить махорку и «Данхилл».
Пить даже сухую воду.
Ко мне мой хранитель-ангел
не смог дозвониться по коду.
И вот я сижу у стойки,
уже не считаю «дринки»,
все лестницы мне пологи
еще пока по старинке.
И бабы еще интересны,
и впору еще костюмы,
и есть адресок на Пресне,
где можно прилечь без шума.
Но здесь, в Хитроу, Хитроу,
за милю до океана,
я знаю, я чувствую кровью,
что поздно, и что еще рано.
* * *
Снова листья подходят к балкону,
И на солнышке нежится кот,
И навстречу со мной благосклонно
Плодоносная туча плывет.
Я дожил. Ты дожил. Мы дожили.
Как потворствовал нам Зодиак!
Я об этом скажу и в могиле,
Да боюсь — не запомнить никак.
2001
Юго-запад
В пригородном позабытом парке
Вековые сумерки плывут.
Здесь разбег для лайки и овчарки,
Мне пора остановиться тут.
А вокруг темнеет юго-запад,
Я недаром выискал окно…
Что мне надо? Память оцарапать,
Если так у нас заведено.
Здесь она жила за той портьерой,
Здесь осталась до конца она,
Вот сейчас гляжу на светло-серый
Бледный силуэт ее окна.
Много слез и много прибауток
Вынес я на этом этаже.
И теперь туманится рассудок,
Так темно и в парке и в душе.
Я под мертвый свет припоминаю
Эту смесь безумья и добра,
И она навек ушла по краю,
Сделана из моего ребра.
Здравствуй, Ева! До свиданья, Ева!
Над метро последние огни.
Жизнь ушла направо и налево,
Посреди подземной толкотни.
Вот и сесть пора в последний поезд
В полутемный, сумрачный вагон.
Дочитать неправильную повесть,
На скамейке около колонн.
2003
«АР ДЕКО»
Какое захолустье, Боже мой!
За сутки до столицы не доедешь.
Пока сидишь в прокуренной пивной,
где за мадьяра сходит Ласло Вереш.
Но здесь не Будапешт, а городок,
когда-то бывший Габсбургам опорой.
Чужая тень легла наискосок
над первой кружкой, над второй,
которой…
Щекою опираясь на ладонь,
в углу вздремнул нетерпеливый парень,
дешевкою разит одеколон,
он, видимо, альфонс из платных спален.
Подвешена «беретта» под пиджак,
остались кроны на бутылку пива,
он и стрелять умеет кое-как
и ждет во сне приказа сиротливо.
А тот, другой, садится в «мерседес»,
распахивая дверцу перед дамой,
здесь, в захолустье праздничный конгресс,
к нему и подрулил стрелок упрямый.
Пока, известный всем, нобелиат
читает беспредметные верлибры,
и вспышки папарацци так слепят,
спекается Европа в старом тигле,
сияет зал эпохи ар деко,
где мрамор плавно переходит в никель,
наган тяжел, но и попасть легко…
И вот он перевел предохранитель.
2004
В чужой гостинице…
«В чужой гостинице чужая жизнь проходит…
То входит в номера, а то навек уходит…»
И через сорок лет в пустынном коридоре
Ее чужой прибой бушует на просторе.
«Жиллетом» поскребу случайную щетину,
припухшую губу подмажу для почину,
и снова жить пора шестеркой на посылках,
и полдень — что гора, и пульс в венозных жилках.
Не помню ничего, что тать — считаю деньги,
Опаздывает лифт, как нефть, скользят ступеньки,
Ширяет кислород в разбитую аорту,
Зеркальный поворот в буфете скалит морду,
И все-таки пора, еще одну минуту
Нельзя не присягнуть вечернему салюту,
Я подписал свой бланк на все ноли аванса,
Я проиграл «ва-банк», но не истратил шанса,
И, может быть, сейчас, сегодня, накануне
Потрачу свой запас наперекор фортуне,
Кривляясь, доскажу последнюю догадку,
И в книгу положу перед концом закладку.
2004
* * *
Запомни день — второе сентября,
Холодный свет на подмосковной даче.
И то, что ты, судьбу благодаря,
Его провел вот так, а не иначе.
Был долог путь, и «Красною стрелой»
В ночь разделен на долгие отрезки,
Где бушевал разболтанный прибой,
Бесстыдно задирая занавески,
Где спутница сулила под коньяк
Блаженство в обтекаемом вагоне,
Но это пролетело кое-как,
Я был тогда в надежной обороне.
Но здесь, сейчас, в прореженном лесу,
Мне жаль ее, да и себя, пожалуй,
Я слово дал, что смерти не снесу,
И ворочусь к легенде обветшалой.
И выполнил. Пускай несется гром
Экспресса под ночные кривотолки.
Мы были вместе — только не вдвоем.
Стакан упал. Я подобрал осколки.
2004
Колониальная Англия
Колониальная Англия,
тихий Малакский пролив,
кончено это Евангелие,
бледным огнем опалив
тот полуостров заброшенный,
ныне здесь правит ислам,
воздух сухой, обезвоженный,
точно разъят пополам.
Поровну делятся башнями
сто пятьдесят этажей,
тропами к морю протяжными
и нищетой шалашей.
Колониальная Англия,
ты еще здесь, у волны,
джунгли, обритые наголо,
яростным светом полны.
Ты еще движешь «роллс-ройсами»,
носишь свой пробковый шлем,
светишь гербами и розами
старых имперских эмблем.
Ты еще празднуешь пабами
гиннес и бренди свое,
только китайцы с арабами
в это вселились жилье.
Старая добрая Англия,
стоя на трапе твоем,
вижу я, как, ненаглядная,
сходишь ты за окоем.
И навсегда отплываешь ты
к северу за океан,
и на глазах отпиваешь ты
виски последний стакан,
что мы наделали, белые,
на окончанье земли,
подняли башни умелые,
но удержать не смогли.
2004
Комната Лосева
Сто стоптанных ступеней на чердак
Вели меня к замызганной квартире,
Куда я поднимался кое-как,
Там было человека три-четыре,
Нарезанная грубо колбаса,
Бутылка водки, теплые пельмени,
В мансарде разбегались голоса,
По потолку бродили косо тени.
Начало жизни стукало в окно,
Мы были откровенны и размыты,
И все слепились в торжище одно, —
Таланты, пустомели, паразиты.
И все-таки, когда гляжу назад, —
Там и была еще живая завязь,
И вечно слышу: гулко голосят
Товарищи, на клички отзываясь.
Так, ни о чем, а просто потому,
Что молоды, что нахватались слухов,
Я сам, не уступая никому,
Главенствую, какой-то вздор застукав.
Теперь, перед печальной чередой
Обратного, по одиночке, спуска,
Отмеченные траурной каймой,
Отмеренной то широко, то узко…
Я думаю, что лучший некролог
Не здесь, в конце, а вовсе там, в начале,
Все потому, что общий путь пролег
В ту пустоту, где мы и замолчали…
2004
Конец вампира
Государство балконов,
дешевого конструктивизма,
памятников первым летчикам
и триумфальных арок,
государство базаров,
где наливают цуйку,
где подают чай с лепестками розы.
Столица особняков «арт деко»,
королевы-поэтессы,
где в Союзе писателей
обитает чучело карпатского волка.
Страна вампира и площадь Вампира,
дворцы Дракулы и Чаушеску.
Дворец Вампира —
недостроенный, но любимый народом,
рядом с фруктовыми лавочками,
рядом с винными погребами,
возле китайского и турецкого конфекциона,
за посольскими садиками,
за рыбным рестораном,
там, где кроме рыбы —
мамалыга с голубцами, —
кубический километр гранита,
где есть комнаты,
куда еще не ступала нога человека.
Четыреста унитазов в золоте и фарфоре,
перила из красного дерева,
ступени из карельской березы.
Сорок кабинетов Вампира,
библиотека Вампира,
четыреста экземпляров Макиавелли —
на каждом экслибрис Вампира.
На пороге дворца сидит цыганка,
которая, по ладони Вампира,
предсказала ему смерть
в луже мочи и цуйки.
Вот и осталась она без клиентов…
А цыганка? Что же цыганка?
Тот, кто знает будущее,
забывает о главном —
только неизвестное нас кормит.
2004
Март
Кончатся март. Была весна из ранних.
Подтаял снег.
Мир исходил в гримасах и рыданьях —
Как человек.
Я прожил век в глуши провинциальной,
Я ждал тебя, —
Весенний день, блистающий, венчальный, —
Свой нрав скрепя.
И вот стою среди кремлевских башен
Наперерез.
Летит по переулку, прям и страшен,
Тот «мерседес».
И все-таки, насколько кровь сильнее,
Чем нефть и власть.
И пусть питье отравы солонее,
И хрупок наст.
И все-таки, я ждал и я дождался,
Теперь — держись.
Но я не твой противник, государство,
Я — просто жизнь.
2004
* * *
Подтаявших аллей
немые укоризны,
не бойся, не жалей,
еще осталось жизни.
Еще одна весна
по лужам кажет мусор,
какого же рожна,
тянуть все туже узел.
Вечерние огни
не хуже почек клейки,
давай-ка, затяни,
шнуровку у скамейки,
и, если ты один,
а этот парк — чужбина,
и снова блудный сын —
знакомая картина.
Ступай за тот порог,
где по тебе скучают,
где испекли пирог
и вечер начинают.
2004
Полковник запаса
Облетевшие розы всесветной разлуки,
И пустые стаканы последнего часа,
Исцелую впотьмах твои сильные руки,
О, мой ангел-хранитель, полковник запаса!
В ледяном новогодье, в Малакском проливе
Ты мне сам продевал орхидею в петлицу,
Ты готовил меня на священном обрыве,
Как готовят к полету опасную птицу.
В ресторанном аду под скрипичные визги
Наливал мне забвенье в осколки Грааля,
Десять лет вместе с правом твоей переписки
Утешал меня медом, лаская и жаля.
Тенью в ночь пробирался,
платя мне без скидки за растрату и морок погубленной жизни,
Ты сбивал мою яхту с туманного галса,
И она затонула в проклятой Отчизне.
Одного я прошу: да не будет разлуки,
Лучше смерть на тележке знакомого морга,
Навсегда я целую твое имя и руки
В невесомом полете над бездной Нью-Йорка.
2004
* * *
Рынок Сенной
теплой весной
в талом снегу.
С кружкой пивной
под выходной,
жизнь на бегу.
Кружит в объезд
этих вот мест
старый трамвай.
Ост или вест?
Шар или крест?
Сам выбирай.
Свет или тьма?
Сморят дома
на виражи.
Жизнь задарма,
что бахрома,
вот и скажи.
Припоминай,
старый трамвай.
Нечет и чёт.
Сам выбирай —
март или май.
Век или год.
2004
* * *
— Слушай, ты, не пора ли смириться?
Домовину примерить как раз.
— Что ты! Самое время молиться.
Начинается лучший рассказ.
Ты меня научил не смиренью.
А чему — мы еще помянём.
Я пройду быстроходною тенью
Люциферовым темным огнем.
2004
То и это
За «Флорианом» на столбе Пьяццетты
грамотный львенок читает книгу.
Что он читает? Бог его знает,
то ли Евангелие, то ли меню «Флориана».
Если Евангелие, значит, от Марка,
если меню, то кофе-эспрессо.
Сядем, товарищ, закажем эспрессо,
граппы графинчик, салат с моццарелой.
Вспомним, товарищ, шашлычную на Разъезжей:
пара «Жигулевского», водка и сациви.
Пробежали годы, улетели самолеты,
кто во «Флориане», а кто на Разъезжей,
а, по сути, это — небольшие перемены.
Сациви не хуже сыра «моццарелла».
И ты вспоминаешь Разъезжую и Чернышова,
а я вспоминаю «Флориан» на Пьяццетте.
Вот если бы нам два столика сдвинуть,
заказать то и это, заказать то и это,
вот тогда бы жизнь удалася,
вот тогда бы мы поднабрались.
Играют Шопена у «Флориана»,
пускают Лещенко на Разъезжей,
а после граппы и после водки —
все одно и то же, все одно и то же.
2004
Четыре квартала
От Обухова моста до Чернышёва
Четыре квартала, всего четыре квартала.
В эту ночь света июньского и большого
Совсем мало.
А когда-то казалась мне эта дорога длиннее жизни,
Не истоптать ее, не запомнить,
В пору было писать с пересадки письма,
По пути ночевать на скамейке в полночь.
По пути попадались мне знаки, намёки, приметы,
Открывались ларьки, запирались склады.
На Гороховой рупор орал куплеты,
И томились купеческие аркады.
А теперь этой ночью, одним залихватским шагом
Одолеть это можно, но толку мало.
Потому что я также как раньше лаком
До всего того, что по совести не хватало.
Потому что время сжимает реки,
Побережья, улицы, двери, стены,
Но стакан лимонада и чебуреки
Остаются целы и вожделенны.
Ну, а то, что уходит, — навсегда остается
В необъятном зрении, в свете давнем,
По копейке оплачивается, как банкротство,
Задыхается в жизни немым рыданьем.
2004
Горбовский поет «Фонарики»
Когда качались те фонарики ночные,
Я шел к тебе по Пушкинской, скользя,
И тени зимние, чудные и родные
Меня сопровождали, что друзья.
Толпа гуляла у Московского вокзала,
Сворачивал на Лиговку трамвай,
И жизнь прошла и что-то рассказала,
Вполглаза заглянула через край.
Но ты остался королем на именинах,
Теперь и не припомнить, отчего
Единственный из целых, неделимых,
Ты был и стал, и хватит одного.
На перепутьях горести невинной
И радости короткой, небольшой,
Среди укусов подлости всемирной
Мы разминулись делом и душой.
В такую ночь, одолевая годы,
На Пушкинской, у дома твоего,
Хочу занять беспутства и свободы,
И разменять причастья на родство.
Тогда-тогда, в безумье и в метели
Мы разошлись на Невском навсегда,
Быть может, оба мы не доглядели,
Не обернулись в новые года.
Но ты пребудешь в молодости дымной,
Подскажешь слово, выпьешь и споешь,
И я горжусь твоей судьбой завидной,
«Орлом» упавшей, как в гаданье грош.
2005
Портленд
Цементный городок был невелик,
Пыль оседала в бездне океана.
Не о таком мечтал чужой старик,
Не о таком болела ночью рана.
Как он попал сюда? И почему?
Снотворное не приносило пользы,
В сиротском обустроенном дому
Он загадал: «Что дальше будет? После?»
Под утро снился столь обрыдлый сон:
Чердак дощатый, потеснивший сосны.
Но он держался близ литых колонн —
Все сожаленья, в сущности, несносны.
Бильярд был в парке — доллар два часа,
Совсем недорого и по карману.
Но с кем играть? Дурная полоса,
И вечный аромат марихуаны.
Но после ночи утихала боль,
Он тут же добивал свои подставки,
Не получался только карамболь —
Шар в лузу падал, словно по заявке.
В неярком свете пристальных витрин
Он шел назад, раскуривая «Кэмел».
И вечера глухой ультрамарин
Иную жизнь в воспоминаньях пенил.
2005
Фонарный переулок
Огромный, круглый стол и пол-окна,
Буфет, похожий на собор двуглавый,
И переулка темная стена —
Вот здесь мы собирались всей оравой.
Хозяйка, танцевавшая чарльстон,
И дочь-очкарик, да и зять-очкарик,
Разболтанный, но громкий патефон,
Герой-любовник — Драгоманов Алик.
Большой плакат: «Все будет хорошо!»
Горячие пельмени под сметану…
Достаточно, чего же нам еще?
Я это вспоминать не перестану.
Покойный кинорежиссер Илья,
И будущий нобелиат острили,
Конферансье здесь выступаю я —
Мы, как к себе, в квартиру приходили.
Еще никто не собирался в путь,
В Нью-Йорк, в Париж, в чужое захолустье,
И надо было только намекнуть,
Что завтра будет лучше, много лучше.
Мне не забыть Фонарный никогда,
Снимаю кепку, слезы вытираю.
Сегодня или завтра — навсегда
Явлюсь туда, и снова все узнаю.
Опять пластинка запоет чарльстон,
Опять отец заговорит о прошлом,
Опять со всех подветренных сторон
Повеет неизбывным и хорошим.
Опять я стану врать или дурить,
Припоминать катрены Гумилева,
Нам остается только ждать и жить.
А жизнь — вот здесь. Она на все готова.
2005
Батум
Дождь над Батумом, две недели дождь,
а в номере так скучно, так уныло.
Надену плащ, открою плотный зонт,
и выйду, погуляю — не растаю.
Ноябрь над черноморьем, мутный вал
облизывает городские пляжи.
Безлюдно. Воскресенье. Я сижу
под скошенным брезентовым навесом,
курю и наблюдаю, как в порту
концы бросает знаменитый лайнер
«Абхазия», как яхта класса «звездный»
пытается поставить паруса.
И никого на километры пляжа,
ни одного прогульщика, бродяги,
какого-нибудь гостя на курорте,
освоившего мертвый сей сезон.
А дождь все хлещет, он стоит стеной
и размывает мелкую щебенку.
Мой плащ промок, и не спасает зонт.
Но за моей спиной цветная будка,
фанерная, должно быть, раздевалка,
неубранная после лета,
переждать в ней можно дождь.
Я отворяю дверцу и вижу —
на полу, на одеяле спит человек
в костюме «адидас»,
и я его потрогал за плечо.
Он встрепенулся, что-то пробурчал,
и поднялся, и сел на табуретку.
На шее у него висела фотокамера
известной японской фирмы.
Он не удивился,
и сделал некий жест как приглашенье,
и попросил немедля закурить.
«Кто вы такой?» — спросил я. — «Я — фотограф.
Фотограф пляжный. Вот уже неделю
работы нет, но я сюда хожу,
быть может, все-таки найдется сумасшедший,
и фото мне закажет, мне немного надо —
харчо тарелку и стаканчик чачи,
и сигареты «Прима» — вот и все». —
«Вы местный?» — я спросил. — «Нет, не совсем.
Когда-то жил в столицах я обеих,
заехал как-то вот сюда на отдых
и здесь остался. Скоро десять лет
как я живу в Батуме.
Летом все в порядке, полно клиентов —
только поспевай». — «А где живете?» —
«Я купил каморку на улице Дзержинского,
снимать жилье накладно. По сути
не могу я лишь без кофе,
варю себе чефир, а вот обедать
хожу я на базар, там есть одно местечко —
шашлычная «Эльбрус». Вы не бывали?» —
«Нет, не бывал». — «Весьма рекомендую —
такого хаша и в Тифлисе нет». —
«Быть может, пообедаем?» — «Нет денег». —
«Я заплачу». — «Нет, так я не привык.
Вот закажите фото, а потом
уже и угощайте». — «Что ж, идея!
Заказываю вам я сериал —
семь фотоснимков. Семь — мое число».
Внезапно дождь проклятый прекратился,
остатки туч рассеялись,
и над Батумом засияло солнце.
«Как вас зовут?» — «Адольфом, просто Адик». —
«А я Евгений». — «Вот и хорошо,
пойдемте к морю, я вас поснимаю».
И мы пошли и встали у волны.
Нептун смирился. Бирюзой и синькой
сиял простор до линии раздела
воды и неба. Лайнер бросил якорь,
и яхта скрылась, только гидроплан
из местного ДОСААФа пролетел.
«Вы чувствуйте себя совсем свободно,
курите, разговаривайте, а я пощелкаю», —
и он взялся за дело.
«А как же быть со снимками? Я нынче
в двенадцать ночи сяду на «ракету»
и перееду в Сочи». — «Я успею.
Я позабыл сказать вам, ассистент
есть у меня. Мы вместе и живем,
он все проявит, тут же отпечатки
он сделает, и все доставит вам
в шашлычную «Эльбрус» как раз к обеду». —
«Так скоро?» — «Через два, ну, три часа.
Вот я вас знаю сорок пять минут,
и что-то уже понял, вы довольны
останетесь». — «Да вы — Картье Брессон!» —
«А кто это?» — «Один французский мастер,
известный очень». — «Нет, я не слыхал,
ведь я не человек искусства, я — фотограф,
пушкарь, как говорили в старину». —
«А этот ассистент ваш, кто такой?» —
«Так приблудился, просто алкоголик,
нет ни семьи, ни друга, никого,
и паспорт потерял. И вот живет
со мною вместе —
уже четыре будет скоро года.
Бывает, чемоданы поднесет,
бывает, купит фрукты на базаре —
продаст на пляже, все-таки, доход.
Он лет уже немалых, сколько точно,
не знает сам. А впрочем, нелюдим,
за сутки может не сказать ни слова,
но я его терплю, душа живая,
хоть дышит кто-то рядом…
Все, готово —
отщелкал пленку я. Теперь пойду домой,
отдам в проявку и в печать. А в три
вам снимки он доставит на базар.
Я подойду попозже, есть дела.
Итак, до трех».
И дождь опять пошел,
и резко потемнело, и валы
с печальным грохотом обрушились на сушу.
И в этом мареве исчез фотограф мой.
Я глянул на часы — двенадцать двадцать.
Как время мне до трех убить?
Пойду и пошатаюсь по Батуму,
по набережной, а затем и в город,
зайду в галантерейный магазин,
там продают изделия цехов подпольных —
майки и носки нейлоновые,
лже-кашемир, лже-кожу, лже-вискозу,
куплю чего-нибудь недорого совсем,
и кофе выпью, три часа пройдут
за этим делом — все же развлеченье.
И я потопал. И как раз за спуском
от набережной к парку магазинчик
уютный и убогий отыскал.
Он тоже был безлюден, лишь кассирша
дремала в уголке. Я выбрал майку
с фальшивым лейблом, вынул кошелек,
хотел пробить свой чек и вдруг увидел,
что к кассовому аппарату
прислонен портрет его — знакомые усы,
мундир знакомый, и знакомый ежик
над низким лбом.
Я, как дурак, спросил: «Зачем он здесь?
Зачем он вам вообще?» —
«А он — великий человек, великий.
Какое ваше дело? Покупайте
товар и уходите». — «Но зачем
вы любите его? Он миллионы
убил невинных». — «Он убил мерзавцев.
Был дядя у меня, брат матери,
он стал меньшевиком в двадцать втором,
и он его убил.
Зачем подался тот в меньшевики?
Все по заслугам — расстреляли дядю.
Он немцев победил, чеченцев выслал,
он цены всякий год вовсю снижал.
И все его боялись. А теперь,
что, лучше разве?» И ушел я с майкой.
Опять на набережную я свернул
и в будочку сапожную уперся.
Починка обуви, и чистка, и — открыто.
Я заглянул, дремала ассирийка
за ящиком своим, я разбудил ее,
сказал: «Почисти».
— «Давайте, и простите — я заснула».
И я уселся в кресло, и она
достала гуталин. И вспомнил я:
его ведь называли Гуталином,
и за ее спиной увидел я
другой портрет — он с матерью и сыном
Василием, их кто-то написал,
наверно, на клеенке. Он — в мундире,
роскошном, маршальском,
Василий — в пиджаке, а мама Катино —
в одежде черной…
И замелькали щетки ассирийки,
и залоснились прахоря мои.
«Зачем он вам?» — «А я к нему привыкла,
вся жизнь при нем прошла,
вот без него и скучно стало». — «Боже,
ваш народ, древней, чем пирамиды и Эллада,
ну, что он вам?» — «Вам не понять. Без них,
без Тамерлана и Аттилы скучно!
Вот изгнаны мы из родной земли,
рассеяны по свету, чистим обувь,
живем неплохо, только скучно нам.
А с ним забавнее и веселее…
С вас два рубля…» И расплатился я.
И пролетело сумрачное время.
Я поспешил на городской базар,
а он еще как раз не разошелся:
вот горы изабеллы, груши бэра,
вот специи в мешочках, и ткемали,
аджика адская, домашнее вино,
молочный ряд, мясной и трикотажный.
Сменить носки промокшие — как славно!
Вот будка лотерейщика, газеты,
чурчхелы, вот коньячная бурда
в бутылках липовых — подделка местная
под знаменитой маркой,
наперсточники с грустными глазами,
а вот и мне назначенное место —
шашлычная «Эльбрус» — убогий домик
из плит цементных с ленточным окном.
И я вошел. И — нет свободных мест,
поскольку дождь еще не прекратился,
и здесь его пережидают за хашем,
лобио и шашлыком, ну и конечно,
за лучшей в мире чачей.
И вдруг я слышу голос: «Эй! Сюда!»
В углу я вижу человека в болонье
темно-красного, линялого оттенка
и в сванской шапочке. И он призывно
машет мне. Я подошел и понял —
ассистент. «Садитесь, я принес
заказы ваши». — «Так познакомимся», —
и я назвал себя. Он что-то пробурчал —
я не расслышал. Я крикнул: «Эй, батоно,
закуску, два харчо, два лобио,
потом два шашлыка,
бутылку чачи и вина бутылку».
И скоро появилось это все.
«Вы из Москвы?» —
«Да, из Москвы, но раньше
жил в Ленинграде». — «Я тоже там бывал».
И вот мы выпили, и закусили сыром
сулугуни жареным — закуски лучше нет.
Он жадно стал хлебать харчо, он, видно,
проголодался, да и я
не ел сегодня ничего с утра.
И я спросил: «А что, хозяин ваш придет?» —
«Придет хозяин, он опоздает, может, на часок».
Мы выпили еще по стопке чачи.
Душа открылась, присмотрелся я,
и облик ассистента стал мне ясен:
кавказское лицо, загар, щетина,
два зуба золотых и сивый ус,
что сильно обесцвечен никотином,
укутанное пестрым шарфом горло,
и — желтые, тигриные глаза.
Батумскую мы закурили «Приму»,
вполне приличный правильный табак.
Я поглядел по сторонам, на стенке
висело два десятка фотографий:
тбилисское «Динамо» перед матчем,
Пайчадзе молодой и Метревели
с ракеткой после сета, человек
в фуражке капитанской у штурвала,
жених с невестой где-то в местном загсе,
красотка из индийского кино,
и Буба Кикабидзе с микрофоном.
Последним на стене висело фото
туманное и старое. Оно
мне сразу показалося особым,
знакомым даже. Какая-то толпа, и впереди
с кустарным флагом молодой грузин,
обмотанный под клифтом пестрым шарфом.
Я наблюдателен, и я заметил,
что шарф такой сейчас на ассистенте.
Но мало ль одинаковых шарфов!
Вдруг ассистент сказал: «Хозяин этой
шашлычной — Нестор — давний мой приятель,
и у него хороший есть коньяк,
но для своих. Хотите, закажу?» —
«Ну, да, конечно». — «Можно двести грамм?» —
«Зачем же двести, лучше взять бутылку». —
«А вы щедры». — «А для чего нам деньги?
Потратим эти — новые придут!» —
«Вот это мудро, я вам отслужу», —
и он прикрикнул что-то по-грузински.
И нам на стол поставили коньяк —
совсем другое дело. Мы выпили,
и побежал туман перед глазами,
и огонь по жилам…
И я опять на это фото глянул,
и убедился — он передо мной.
Не только шарф, он сам,
тот желтый взор, тот низкий лоб,
та меленькая оспа.
Он сам передо мной коньяк мой пьет.
«Так это ты?» — спросил я напрямик. —
«Да, это я, а как ты догадался?» —
«А я внимателен, таков мой дар.
Теперь по кофе?» — «Кофе два, как надо!» —
он крикнул вдруг по-русски. Я подумал,
что он всегда хотел быть только русским.
«Так для чего убил ты миллионы?
Своих товарищей по партии убил?
Народы выслал? Прозевал войну?» —
«Ты хочешь, чтобы я сейчас ответил?» —
«Конечно, больше случая не будет». —
«Ты знаешь, я — поэт, и я — артист,
мне просто было интересно, как себя
вы поведете. Эх, люди, люди!
С моим портретом вы пошли на казнь.
Я ждал, что будет — вы не огрызнулись даже.
Баран, и тот бушует, приближаясь к бойне».
Я захмелел и погрузился в сон.
И кто-то по плечу меня похлопал,
очнулся я, передо мной —
фотограф высился и обаятельно
глядел в глаза мне. «Ах, простите,
задержался я.
Как хорошо, что вы меня дождались.
Дела я сделал — можно отдохнуть».
И он присел, и ноги протянул,
как понял я, натруженные ноги.
Смеркалось, и зажгли в шашлычной свет,
дождь, наконец, закончился, и люди
ушли, и до закрытия базара остался час.
И вдруг фотограф мой
сказал на неизвестном языке
мне что-то справедливое по звуку,
но я не знал, о чем он, и ответил
ему: «Переведи!»
«Нет, слишком я устал, — сказал фотограф, —
ведь я брожу уже две тыщи лет». —
«Я догадался, кто ты, — я сказал. —
Я заплатил за счет, где фотоснимки?» —
«Они в альбоме». — «Покажи альбом».
Он расстегнул клеенчатую сумку
и вытащил замызганный альбомчик,
и протянул мне. Я его открыл.
На первом снимке высилась Голгофа,
вот поцелуй Иуды, вот уже
легионеры римские, и Он,
не Агасфер, а Тот, Другой, Который
отправил в странствие соседа моего.
Вот крестоносцы в пышной Византии,
вот ночь Варфоломея, вот Цусима,
вот Робеспьер в Конвенте на трибуне,
вот казнь Людовика,
вот Данте и Вергилий,
вот Черчилль с автоматом на линкоре,
вот Чкалов, Байдуков и Беляков,
вот Ленин в шалаше, Зиновьев рядом,
вот Николай в Ипатьевском подвале,
вот Николаев поднял парабеллум,
Распутин и Юсупов, Мата Хари,
Мерлин Монро и Кеннеди убитый
в лимузине, и Гитлер в «хорьхе»,
а вот и ассистент на мавзолее…
И я закрыл альбом.
«А где же мой заказ?» — «Ты не спеши,
заказ со мной, но ты его получишь,
когда базар закроется». — «Что так?» —
«Ты распишись в квитанции сначала.
У нас здесь бухгалтерия своя,
мы чтим порядок». Он полез в карман
и вытащил измятую бумагу,
и я ее расправил. Боже мой!
Была написана она по-арамейски.
«Что здесь написано?» —
«А ты не догадался?» — «Нет покамест». —
«А здесь все то, что станется с тобой». —
«Что будет, если я не подпишу?» —
«Тогда мы отвернемся от тебя,
и ты сойдешь с тропы своей судьбы,
и проживешь чужую жизнь, и будешь
обманут ею». И я допил коньяк.
И я спросил: «А можно мне подумать?» —
«Подумай до закрытия базара,
тебе осталось двадцать шесть минут».
Буфетчик тяжко загремел посудой,
вошла уборщица и стала стулья ставить
на столики и мыть цементный пол.
И ассистент сказал: «Послушай, милый,
подумай, мы советуем тебе
все подписать, а если не подпишешь —
пропали твои денежки. Тогда
мы разойдемся. Ночью на «ракете»
ты уплывешь, и все пойдет как надо.
Но не узнаешь ты,
что мы тебе в квитанцию вписали,
и это томить тебя до самого конца
так страшно будет. Слушай, подпиши».
«Я закрываю», — заорал буфетчик.
«Я кончила», — уборщица сказала.
«Я подпишу, но ручку я забыл». —
«Не надо ручки», — молвил ассистент.
«Причем тут ручка?» — промычал фотограф.
«А как же? Кровью? Братцы, это пошлость!» —
«Зачем же кровью? Жизнью подпиши». —
«Подписываю!» — «Все, пора, пора», —
сказал буфетчик, и привстал фотограф,
и ассистент квитанцию схватил.
Мы вышли в полутьме, и я споткнулся.
Коньяк подействовал, я был изрядно пьян.
«Ребята, проводите в «Интурист»!
Но я стоял на каменном пороге
совсем один. Я к стенке прислонился.
Дождь перестал, фонарик одинокий
рассеянно светился над базаром,
прожекторы лучом крестили небо,
и только лайнер полыхал в порту
нарядными огнями. Я побрел…
……………………………………….
P.S.
И я вернулся в номер «Интуриста»,
и только там открыл конверт с заказом.
Семь снимков. Боже, что увидел я!
Вот враг мой мертвый — в церкви отпеванье,
вот первый друг на острове в лагуне,
вот лучший ученик в петле,
и мать моя стоит средь райских кущей,
моя страна в огне войны гражданской,
и я, предательски сдающий правду
во имя лжи…
Я — на своем кресте…
………………………………………………..
Но я опаздывал на позднюю «ракету»,
совал я в сумку в спешке несессер,
бумаги, шмотки и забыл конверт…
И больше никогда он не нашелся.
2005
Когда на Головинском кладбище
Мы все сойдемся в этот день,
И воздуха литые клавиши
Отметят сумрачную тень.
И тусклый свет перед иконами
Проявит желтый огонек,
И дьякон с низкими поклонами
Подаст всесильный голосок.
А в ризе батюшка белеющий
Спиною повернется к нам,
То всякий рьяный и болеющий
Вдруг поглядит по сторонам.
И малые огарки жжением
Тотчас нам пальцы припекут,
С испугом или напряжением
Мы понимаем — Анна тут.
Она стоит в весенних сумерках,
Где что-то шепчут и молчат,
А для особых неразумников
К устам подносит белый плат.
Когда ж молебствие кончается,
Она заходит за престол,
И к Михаилу наклоняется,
И разделяет общий стол.
И тут за щедрою закускою,
Когда ей прощены грехи,
Она с понятливостью русскою
Читает старые стихи.
От Царского Села до Лондона,
От Крыма и по Палатин,
Среди предчувствия холодного
Мы понимаем знак один.
Еще одна минута благости,
Еще один, последний, плач,
И наши горести и радости
Уйдут за пламенный кумач.
* * *
М.А.
Опрятный столик на веранде,
на выбор и «бурбон» и «скотч».
«Ах, перестаньте, перестаньте,
мне это выслушать невмочь!
Что все ушло в песок утоптанный
на городском бесплатном пляже,
а все родное, все удобное
я погубил в ажиотаже.
Все ожидания и выкрики,
твои несносные объятья,
и курточку по старой выкройке,
и гладью вышитое платье.
И запоздалые признания
в осеннем парке на скамейке,
и зов проклятого призвания,
и чемоданные наклейки.
И то, что больше не воротится,
что было и не стало нами,
как предсказала Богородица
в кладбищенском и тесном храме».
* * *
В тот давний день мелькал неверный свет,
отброшенный пустой волной залива,
и оба вы, которых больше нет,
на палубу глядели сиротливо.
Мы возвращались в город катерком
и никуда, по сути, не спешили,
и было нам поговорить о ком
и — чем, пока еще вы жили.
Но вы молчали, словно угадав
свою необъяснимую заминку,
и этот летний день, что кенотаф,
остался с вами навсегда в обнимку.
На набережной тлели фонари,
и вот тогда я понял безответно...
«Ну, что же ты, давай, заговори!» —
я сам себя подталкивал. Но тщетно.
Каток в Центральном парке
Каток в Центральном парке
Лежит в низине ровной,
И воздуха помарки
Дрожат мазуркой дробной.
Мелькают конькобежцы —
Все мельче и крупнее,
То медленней, то резче,
Слабее и сильнее.
Они скользят, как могут,
За снежными штрихами,
Они берут за локоть,
И плавают кругами.
Как будто бы с охоты
Они спешат до дома,
Как будто бы доходы
Зависят от разгона,
Как будто в темнотище
На них огни играют,
Как будто снега чище
Рисунок повторяют.
И шапочки, и платья,
Изводит свет на конус,
И скорые объятья
Разводит темный космос.
И вырастает в парке
Искусства верный стебель,
Как будто бы в запарке
Нарисовал их Брейгель.
Магазин «Русская деревня»
В магазине «Русская деревня»
На иконе древней Демиург.
Все, что избежало истребленья —
Дореволюцьонный Петербург.
Рамки серебра и палисандра,
И фарфора золотистый край,
Что произошло от Александра,
Горестно прикончил Николай.
Ордена и шифры, и погоны,
Нимфы в предрассветном неглиже,
Все, что изготовили для трона
Ювелиры фирмы Фаберже.
Все, что было роскошью и негой,
Все, что отливало синевой,
И дворцовою библиотекой
В городе над Мойкой и Невой.
Что ушло на дно имперской бездны,
Уплыло на русских кораблях,
Стало дорого и бесполезно,
Словно мир, поверженный во прах.
И теперь, когда банкир и жулик
Примеряют бронзу и ампир,
Курят императорский окурок,
Носят императорский мундир.
Слышу я архангельское пенье,
Никого на свете не виню
В магазине «Русская деревня»,
Где-то на девятой авеню.
Музыка
На изгибе улицы парижской,
И на финской каменной гряде,
Ты была далекой или близкой,
Но не оставляющей нигде.
В ресторанном затемненном зале,
От тебя живился алкоголь,
И ладони женские бросали
Розы, деньги, раковины, соль.
И в полночный час, когда на смену
Тучам пробивается звезда,
Воспевала верность и измену,
Но не отступала никогда.
Положивши голову на деку,
Смертный пересиливала гул,
Мрачно подпевала человеку,
Если он с «Титаником» тонул.
Никакой не брезговала пьянкой,
На земле в последний бой вела,
Ты была и скрипкой и шарманкой,
Замыслом космическим была.
И бывает: средь толпы безумной,
Я к тебе прислушаюсь и — вот:
Мне приказ ударный или струнный
Не спешить и сделать поворот.
И тогда один в широком поле
Слушаю твой праведный прибой —
То, что мы вдвоем перебороли,
То, что мы решили меж собой.
* * *
Над всей Голландией безоблачное небо,
и рыбки плавают в искусственном саду,
и бабочки ныряют в высоту,
но кайфа нету.
Велосипедное звенит, гуляет море,
оранжевый кидается футбол,
но это все-таки совсем чужой глагол —
Урания не пара Терпсихоре.
И глядя на расплавленный кристалл
цветного льда в оттаявшем стакане,
я понимаю все это заране:
как мало жить и как я не устал.
Нищая собака на Стрэнде
На Стрэнде нищий сидит с овчаркой
В приличной робе, как бы не маркой,
В руках стаканчик, а в нем монеты.
А Стрэнд опасен как воды Леты.
На нем направо стоят отели,
А там, напротив, уже бордели,
Вот здесь ботинки — сто сорок фунтов,
А там, напротив, чучмеки в унтах.
Овчарка лает, овчарка просит,
И лай к отелям норд-вест относит,
И эта сволочь, банкиры мира,
Не подают ей на ломтик сыра.
А я, имея четыре фунта,
Монетку бросил в начале бунта.
Мы вас доставим на гильотину,
Мы вас заставим крутить плотину,
Вам мало Ленина и Робеспьера?
У нас в запасе иная мера.
Иная мера делить излишки,
Мы доведем вас до самой вышки,
До самой вышки в подвалах наших,
Мы вам припомним живых и павших.
Давай, овчарка, завой страшнее,
На бельэтажи и эмпиреи,
Давай, мой цербер, давай, родная,
Свой лай в истерику перебивая.
Все это наше, а вы — подонки,
Мы вас прикончим под вой трехтонки,
Мы все захватим, мы все поделим,
На нашей мельнице всех перемелем…
Глядит овчарка на идиота,
Уже и сыра ей неохота.
И говорит мне: «Шуми полегче!
Что разошелся ты, человече?»
Я отвечаю: «Оппортунистка!
Ведь ты — собака, ведь ты — не киска!
Революционный держи характер,
Пусть буржуазный умрет каратель!»
В глазах собаки печальный ужас,
Тихонько воет она, напружась:
«Возьми обратно свою монету,
от провокаторов спасенья нету.
Ты, верно, спятил в своей России!»
………………………………..
Тут перешел я к буржуазии.
* * *
Юзу Алешковскому
Я полюбил НКВД
любовью поздней и взаимной,
теперь мы с ним наедине
в какой-нибудь прогулке зимней.
Я на Лубянку выхожу
и вижу темную громаду.
Здесь к неземному этажу
свободно подниматься взгляду.
Вот этот темный кабинет,
где обитают пять наркомов,
и здесь они, и как бы — нет —
среди убитых миллионов.
От Кампанеллы до Христа
Утопия ждала Мессию,
чтобы допрос читать с листа
и веки запечатать Вию.
Зачем Дантон и Пугачев,
и теорема Пифагора
сошлись под этот тяжкий кров?
Для вопля или разговора?
Неужто римлянин и скиф,
апостол Павел и Аттила
творили бесконечный миф,
чтобы наганом били в рыло?
И вот одна лишь темнота,
пустой морозный крематорий,
и всем погубленным — тщета,
сгубившим душу — суд нескорый.
И потому они молчат,
и бронзовеют год от года,
лишь тяжко дышат в аппарат
Ежов, Дзержинский и Ягода.
А я? Мне поместиться где?
В каком окне, в каком подвале?
Я полюбил НКВД
за вечный мрак его печали.
Под новогодний холодок
ступаю я в тени Лубянки,
как вурдалак и полубог,
зародыш, позабытый в банке.
Рыбный рынок в Нью-Йорке
Лежит распластанная камбала
На рыбном рынке у Нью-Йорка,
И километр угря галантного,
И устриц каменная горка.
И лососина с осетринами,
И каракатицы, и раки —
Они за темными витринами
Купаются в уютном мраке.
Соседствуют тунцы с акулами,
Кальмары обвивают стенку,
И с обитателями снулыми
Лежат ракушки впеременку.
И все, что океан утаивал,
И все, что сохранили трюмы —
Чешуйчатый, зеленый, палевый,
Веселый, белый и угрюмый, —
Весь этот мир на рыбной пристани
Доставлен к нашему застолью,
И с плавниками серебристыми,
И золотой и слабой солью.
«Серая борзая»
Автобус «Серая борзая»
Летит в туманный окоем,
Он, километры пропуская,
Спешит во тьму неярким днем.
Он пересчитывает штаты,
Несет бензинный перегар,
Нет расстоянию пощады,
Он страшен, как лесной пожар.
Он мнет шоссе пустую ленту,
Летит и прямо и в обход,
Но уступает конкуренту,
Когда тот вихрь или доход.
Он все вывозит и выносит,
Сдает пространство он в утиль,
Но эта скорость, словно проседь,
Неотвратима, словно пыль.
Крута его высоколобость,
И грязь его, что мезозой,
Недаром голубой автобус
Прозвали «Серою борзой».
Спичечный коробок
Приходи к «Флориану», когда стемнеет,
Слышишь, ветер с лагуны вовсю сатанеет,
Но оркестр сквозь порывы играет Шопена,
Вот теперь и обсудим мы все откровенно.
Лев читает нам книгу с невысокой колонны,
Лодки бьются о пристань и считают поклоны,
И последний прохожий пропал за Сан-Марко,
Начинается ночи немая запарка.
Видишь, купол над нами все тяжеле и уже,
Флориановы тени во тьме разутюжа,
Ночь приходит из нашей с тобой половины.
На стене Арсенала Алигьери терцины.
Ты — из ближней могилы, я — из давней мороки,
Значит, ныне сбываются судьбы и сроки,
Значит, призраки есть, как сказал Свидригайлов,
Это факт, а не выдумка бешеных файлов.
Рюмка «граппы» и чашечка черного «мокко»
Объявляют, что ты появился с Востока
Вместе с бледным рассветом, ленинградским загулом,
Вместе с давним дружком косолапо-сутулым.
Так разделим священную дрожь алкоголя
И ожог кофеина — на все твоя воля,
Тут петух не споет, и сосед не заплачет,
Только школьник наш впрок твои рифмы заначит,
Перепутает строфы, перепробует строки,
На полях Елисейских всем нам хватит мороки:
Все поставить на место, погрозить неумехам,
Плагиаторам и соглядатаям-лохам,
Веницейское время кончается скоро,
Адриатика ночью — что затычка простора,
Этот город — тупик, ну и слава же Богу,
Что не надо опять собираться в дорогу.
От собора, Пьяццетты и до Арсенала
Ровно столько шагов, что ни много, ни мало,
Так пойдем, поглядим, если спросят — ответим,
Словно в том гастрономе — не будешь ли третьим?
Но быть может он нам и протянет монету,
Если что — мы заплатим, ведь бывает, что нету.
Но, похоже, он с нами вовек расплатился,
Так давно, далеко — даже голос расплылся,
Долетавший до нас. Помнишь озеро Щучье?
Там аукалось в соснах тройное созвучье,
Там с тобой мы брели по дороге на «будку».
Вот и кончилось лето по тому первопутку.
Вот и вспыхнул огонь на корме электрички,
Словно в темном углу обгорелые спички.
Старое кино
Гангстеры в отглаженных костюмах
Томно восходили на экран,
В этих фильмах старых и угрюмых
Рокотал Великий океан.
Проявлялись черные на белом,
На врагов глядели свысока,
Вскидывали тяжкий парабеллум
И потом стреляли от виска.
Эти девки в серебристых платьях
Падали в широкую постель,
Эти безработные в заплатах,
Нежного заката акварель.
На другом конце земного шара
Мы смотрели старое кино,
Отблески «Чикагского пожара»
Прожигали наше полотно.
И тогда великий Хамфри Богарт
Уходил в предательский туман,
Или Чаплин танцевал под хохот,
Или Киттон двигал чемодан.
На другом конце земного шара
Каждого охватывала дрожь, будто чья-то правда побежала,
будто чья-то погибала ложь.
Трубная площадь
Там две горы. Одна к другой идет.
И между ними — улица распадом.
И сколько бы не стоил переход,
Он ерунда, когда тебя нет рядом.
Я прожил здесь военные года,
Я помню «мессершмиты», помню «тигры»,
Я помню, как сдавали города,
Как Химок немцы в октябре достигли.
И помню я сорок четвертый год,
Медаль «Освобожденье Будапешта»,
Через бульвар натоптанный проход,
Где было облюбованное место.
Там торговали сладенькой водой
Под именем любимым «газировка».
И прятал лейтенантик молодой
В карман купюры, сложенные ловко.
Я помню «Парк культуры», где стоял
Немецкий танк с пробоиной корявой,
Я помню, как на Киевский вокзал
Пришел победный эшелон со славой.
И вот теперь в разъезженном такси
Мы с горки забираемся на горку.
И сколько ты не плачь и не проси,
Мне не уехать к твоему Нью-Йорку.
Поскольку все со мной случилось здесь,
Печатников зияет переулок,
На эту гору скудную залезть —
Есть лучшая из мировых прогулок.
Ведь снова жизнь не спеть, не повторить,
Она нас настигает и пленяет.
Ну, чем меня ты можешь одарить?
А прошлое вовек не изменяет.
Угол Фонтанки и Международного
Там, где проспект скрещается с рекой,
где старый сад и солнечная тумба,
пора и мне, должно быть, на покой,
тем более, что это так доступно.
Когда бы досидеть до темноты,
вот-вот сойдут на нет дневные пятна,
и увидать, что это — точно, ты,
в песочнице копаешься опрятно.
Заговорить: «Ты узнаешь меня?
Лет шестьдесят — не столь большие сроки,
и все-таки, колени преклоня,
сумел прожить я без твоей опеки.
Мне было пусто, каторжно, темно,
все отступало — истина и вера.
Я столько лет глядел в твое окно
и ждал, когда поднимется портьера.
И под закатом, отгоревшим в медь,
когда от жизни остается нежить,
сейчас меня ты можешь пожалеть
и, если хочешь, попросту утешить.
Поскольку ты, конечно, это — я
на детской неприкаянной площадке.
И прорицая, бедствуя, кляня,
Я — это ты. И все. И взятки гладки».
Хитроу
«Конкорд» клюет над Хитроу,
английское утро промыто.
И кажется мне порою,
что я дошел до лимита.
Что все, как у рака, в прошлом,
а здесь только ланч с «маргаритой».
Я стал не дохлым, а дошлым
с полузабытой обидой.
Я стал не умным, а ушлым,
сменял овцу на корову.
Могу атлантическим утром
Спокойно взлететь над Хитроу.
Курить махорку и «Данхилл».
Пить даже сухую воду.
Ко мне мой хранитель-ангел
не смог дозвониться по коду.
И вот я сижу у стойки,
уже не считаю «дринки»,
все лестницы мне пологи
еще пока по старинке.
И бабы еще интересны,
и впору еще костюмы,
и есть адресок на Пресне,
где можно прилечь без шума.
Но здесь, в Хитроу, Хитроу,
за милю до океана,
я знаю, я чувствую кровью,
что поздно, и что еще рано.
* * *
Снова листья подходят к балкону,
И на солнышке нежится кот,
И навстречу со мной благосклонно
Плодоносная туча плывет.
Я дожил. Ты дожил. Мы дожили.
Как потворствовал нам Зодиак!
Я об этом скажу и в могиле,
Да боюсь — не запомнить никак.
2001
Юго-запад
Памяти З.Ш.
В пригородном позабытом парке
Вековые сумерки плывут.
Здесь разбег для лайки и овчарки,
Мне пора остановиться тут.
А вокруг темнеет юго-запад,
Я недаром выискал окно…
Что мне надо? Память оцарапать,
Если так у нас заведено.
Здесь она жила за той портьерой,
Здесь осталась до конца она,
Вот сейчас гляжу на светло-серый
Бледный силуэт ее окна.
Много слез и много прибауток
Вынес я на этом этаже.
И теперь туманится рассудок,
Так темно и в парке и в душе.
Я под мертвый свет припоминаю
Эту смесь безумья и добра,
И она навек ушла по краю,
Сделана из моего ребра.
Здравствуй, Ева! До свиданья, Ева!
Над метро последние огни.
Жизнь ушла направо и налево,
Посреди подземной толкотни.
Вот и сесть пора в последний поезд
В полутемный, сумрачный вагон.
Дочитать неправильную повесть,
На скамейке около колонн.
2003
«АР ДЕКО»
Какое захолустье, Боже мой!
За сутки до столицы не доедешь.
Пока сидишь в прокуренной пивной,
где за мадьяра сходит Ласло Вереш.
Но здесь не Будапешт, а городок,
когда-то бывший Габсбургам опорой.
Чужая тень легла наискосок
над первой кружкой, над второй,
которой…
Щекою опираясь на ладонь,
в углу вздремнул нетерпеливый парень,
дешевкою разит одеколон,
он, видимо, альфонс из платных спален.
Подвешена «беретта» под пиджак,
остались кроны на бутылку пива,
он и стрелять умеет кое-как
и ждет во сне приказа сиротливо.
А тот, другой, садится в «мерседес»,
распахивая дверцу перед дамой,
здесь, в захолустье праздничный конгресс,
к нему и подрулил стрелок упрямый.
Пока, известный всем, нобелиат
читает беспредметные верлибры,
и вспышки папарацци так слепят,
спекается Европа в старом тигле,
сияет зал эпохи ар деко,
где мрамор плавно переходит в никель,
наган тяжел, но и попасть легко…
И вот он перевел предохранитель.
2004
В чужой гостинице…
«В чужой гостинице чужая жизнь проходит…
То входит в номера, а то навек уходит…»
И через сорок лет в пустынном коридоре
Ее чужой прибой бушует на просторе.
«Жиллетом» поскребу случайную щетину,
припухшую губу подмажу для почину,
и снова жить пора шестеркой на посылках,
и полдень — что гора, и пульс в венозных жилках.
Не помню ничего, что тать — считаю деньги,
Опаздывает лифт, как нефть, скользят ступеньки,
Ширяет кислород в разбитую аорту,
Зеркальный поворот в буфете скалит морду,
И все-таки пора, еще одну минуту
Нельзя не присягнуть вечернему салюту,
Я подписал свой бланк на все ноли аванса,
Я проиграл «ва-банк», но не истратил шанса,
И, может быть, сейчас, сегодня, накануне
Потрачу свой запас наперекор фортуне,
Кривляясь, доскажу последнюю догадку,
И в книгу положу перед концом закладку.
2004
* * *
Запомни день — второе сентября,
Холодный свет на подмосковной даче.
И то, что ты, судьбу благодаря,
Его провел вот так, а не иначе.
Был долог путь, и «Красною стрелой»
В ночь разделен на долгие отрезки,
Где бушевал разболтанный прибой,
Бесстыдно задирая занавески,
Где спутница сулила под коньяк
Блаженство в обтекаемом вагоне,
Но это пролетело кое-как,
Я был тогда в надежной обороне.
Но здесь, сейчас, в прореженном лесу,
Мне жаль ее, да и себя, пожалуй,
Я слово дал, что смерти не снесу,
И ворочусь к легенде обветшалой.
И выполнил. Пускай несется гром
Экспресса под ночные кривотолки.
Мы были вместе — только не вдвоем.
Стакан упал. Я подобрал осколки.
2004
Колониальная Англия
Колониальная Англия,
тихий Малакский пролив,
кончено это Евангелие,
бледным огнем опалив
тот полуостров заброшенный,
ныне здесь правит ислам,
воздух сухой, обезвоженный,
точно разъят пополам.
Поровну делятся башнями
сто пятьдесят этажей,
тропами к морю протяжными
и нищетой шалашей.
Колониальная Англия,
ты еще здесь, у волны,
джунгли, обритые наголо,
яростным светом полны.
Ты еще движешь «роллс-ройсами»,
носишь свой пробковый шлем,
светишь гербами и розами
старых имперских эмблем.
Ты еще празднуешь пабами
гиннес и бренди свое,
только китайцы с арабами
в это вселились жилье.
Старая добрая Англия,
стоя на трапе твоем,
вижу я, как, ненаглядная,
сходишь ты за окоем.
И навсегда отплываешь ты
к северу за океан,
и на глазах отпиваешь ты
виски последний стакан,
что мы наделали, белые,
на окончанье земли,
подняли башни умелые,
но удержать не смогли.
2004
Комната Лосева
Л.Л. с великой любовью
Сто стоптанных ступеней на чердак
Вели меня к замызганной квартире,
Куда я поднимался кое-как,
Там было человека три-четыре,
Нарезанная грубо колбаса,
Бутылка водки, теплые пельмени,
В мансарде разбегались голоса,
По потолку бродили косо тени.
Начало жизни стукало в окно,
Мы были откровенны и размыты,
И все слепились в торжище одно, —
Таланты, пустомели, паразиты.
И все-таки, когда гляжу назад, —
Там и была еще живая завязь,
И вечно слышу: гулко голосят
Товарищи, на клички отзываясь.
Так, ни о чем, а просто потому,
Что молоды, что нахватались слухов,
Я сам, не уступая никому,
Главенствую, какой-то вздор застукав.
Теперь, перед печальной чередой
Обратного, по одиночке, спуска,
Отмеченные траурной каймой,
Отмеренной то широко, то узко…
Я думаю, что лучший некролог
Не здесь, в конце, а вовсе там, в начале,
Все потому, что общий путь пролег
В ту пустоту, где мы и замолчали…
2004
Конец вампира
Государство балконов,
дешевого конструктивизма,
памятников первым летчикам
и триумфальных арок,
государство базаров,
где наливают цуйку,
где подают чай с лепестками розы.
Столица особняков «арт деко»,
королевы-поэтессы,
где в Союзе писателей
обитает чучело карпатского волка.
Страна вампира и площадь Вампира,
дворцы Дракулы и Чаушеску.
Дворец Вампира —
недостроенный, но любимый народом,
рядом с фруктовыми лавочками,
рядом с винными погребами,
возле китайского и турецкого конфекциона,
за посольскими садиками,
за рыбным рестораном,
там, где кроме рыбы —
мамалыга с голубцами, —
кубический километр гранита,
где есть комнаты,
куда еще не ступала нога человека.
Четыреста унитазов в золоте и фарфоре,
перила из красного дерева,
ступени из карельской березы.
Сорок кабинетов Вампира,
библиотека Вампира,
четыреста экземпляров Макиавелли —
на каждом экслибрис Вампира.
На пороге дворца сидит цыганка,
которая, по ладони Вампира,
предсказала ему смерть
в луже мочи и цуйки.
Вот и осталась она без клиентов…
А цыганка? Что же цыганка?
Тот, кто знает будущее,
забывает о главном —
только неизвестное нас кормит.
2004
Март
Кончатся март. Была весна из ранних.
Подтаял снег.
Мир исходил в гримасах и рыданьях —
Как человек.
Я прожил век в глуши провинциальной,
Я ждал тебя, —
Весенний день, блистающий, венчальный, —
Свой нрав скрепя.
И вот стою среди кремлевских башен
Наперерез.
Летит по переулку, прям и страшен,
Тот «мерседес».
И все-таки, насколько кровь сильнее,
Чем нефть и власть.
И пусть питье отравы солонее,
И хрупок наст.
И все-таки, я ждал и я дождался,
Теперь — держись.
Но я не твой противник, государство,
Я — просто жизнь.
2004
* * *
Подтаявших аллей
немые укоризны,
не бойся, не жалей,
еще осталось жизни.
Еще одна весна
по лужам кажет мусор,
какого же рожна,
тянуть все туже узел.
Вечерние огни
не хуже почек клейки,
давай-ка, затяни,
шнуровку у скамейки,
и, если ты один,
а этот парк — чужбина,
и снова блудный сын —
знакомая картина.
Ступай за тот порог,
где по тебе скучают,
где испекли пирог
и вечер начинают.
2004
Полковник запаса
Н.
Облетевшие розы всесветной разлуки,
И пустые стаканы последнего часа,
Исцелую впотьмах твои сильные руки,
О, мой ангел-хранитель, полковник запаса!
В ледяном новогодье, в Малакском проливе
Ты мне сам продевал орхидею в петлицу,
Ты готовил меня на священном обрыве,
Как готовят к полету опасную птицу.
В ресторанном аду под скрипичные визги
Наливал мне забвенье в осколки Грааля,
Десять лет вместе с правом твоей переписки
Утешал меня медом, лаская и жаля.
Тенью в ночь пробирался,
платя мне без скидки за растрату и морок погубленной жизни,
Ты сбивал мою яхту с туманного галса,
И она затонула в проклятой Отчизне.
Одного я прошу: да не будет разлуки,
Лучше смерть на тележке знакомого морга,
Навсегда я целую твое имя и руки
В невесомом полете над бездной Нью-Йорка.
2004
* * *
Рынок Сенной
теплой весной
в талом снегу.
С кружкой пивной
под выходной,
жизнь на бегу.
Кружит в объезд
этих вот мест
старый трамвай.
Ост или вест?
Шар или крест?
Сам выбирай.
Свет или тьма?
Сморят дома
на виражи.
Жизнь задарма,
что бахрома,
вот и скажи.
Припоминай,
старый трамвай.
Нечет и чёт.
Сам выбирай —
март или май.
Век или год.
2004
* * *
— Слушай, ты, не пора ли смириться?
Домовину примерить как раз.
— Что ты! Самое время молиться.
Начинается лучший рассказ.
Ты меня научил не смиренью.
А чему — мы еще помянём.
Я пройду быстроходною тенью
Люциферовым темным огнем.
2004
То и это
За «Флорианом» на столбе Пьяццетты
грамотный львенок читает книгу.
Что он читает? Бог его знает,
то ли Евангелие, то ли меню «Флориана».
Если Евангелие, значит, от Марка,
если меню, то кофе-эспрессо.
Сядем, товарищ, закажем эспрессо,
граппы графинчик, салат с моццарелой.
Вспомним, товарищ, шашлычную на Разъезжей:
пара «Жигулевского», водка и сациви.
Пробежали годы, улетели самолеты,
кто во «Флориане», а кто на Разъезжей,
а, по сути, это — небольшие перемены.
Сациви не хуже сыра «моццарелла».
И ты вспоминаешь Разъезжую и Чернышова,
а я вспоминаю «Флориан» на Пьяццетте.
Вот если бы нам два столика сдвинуть,
заказать то и это, заказать то и это,
вот тогда бы жизнь удалася,
вот тогда бы мы поднабрались.
Играют Шопена у «Флориана»,
пускают Лещенко на Разъезжей,
а после граппы и после водки —
все одно и то же, все одно и то же.
2004
Четыре квартала
Михаилу Петрову
От Обухова моста до Чернышёва
Четыре квартала, всего четыре квартала.
В эту ночь света июньского и большого
Совсем мало.
А когда-то казалась мне эта дорога длиннее жизни,
Не истоптать ее, не запомнить,
В пору было писать с пересадки письма,
По пути ночевать на скамейке в полночь.
По пути попадались мне знаки, намёки, приметы,
Открывались ларьки, запирались склады.
На Гороховой рупор орал куплеты,
И томились купеческие аркады.
А теперь этой ночью, одним залихватским шагом
Одолеть это можно, но толку мало.
Потому что я также как раньше лаком
До всего того, что по совести не хватало.
Потому что время сжимает реки,
Побережья, улицы, двери, стены,
Но стакан лимонада и чебуреки
Остаются целы и вожделенны.
Ну, а то, что уходит, — навсегда остается
В необъятном зрении, в свете давнем,
По копейке оплачивается, как банкротство,
Задыхается в жизни немым рыданьем.
2004
Горбовский поет «Фонарики»
Когда качались те фонарики ночные,
Я шел к тебе по Пушкинской, скользя,
И тени зимние, чудные и родные
Меня сопровождали, что друзья.
Толпа гуляла у Московского вокзала,
Сворачивал на Лиговку трамвай,
И жизнь прошла и что-то рассказала,
Вполглаза заглянула через край.
Но ты остался королем на именинах,
Теперь и не припомнить, отчего
Единственный из целых, неделимых,
Ты был и стал, и хватит одного.
На перепутьях горести невинной
И радости короткой, небольшой,
Среди укусов подлости всемирной
Мы разминулись делом и душой.
В такую ночь, одолевая годы,
На Пушкинской, у дома твоего,
Хочу занять беспутства и свободы,
И разменять причастья на родство.
Тогда-тогда, в безумье и в метели
Мы разошлись на Невском навсегда,
Быть может, оба мы не доглядели,
Не обернулись в новые года.
Но ты пребудешь в молодости дымной,
Подскажешь слово, выпьешь и споешь,
И я горжусь твоей судьбой завидной,
«Орлом» упавшей, как в гаданье грош.
2005
Портленд
А.Межирову
Цементный городок был невелик,
Пыль оседала в бездне океана.
Не о таком мечтал чужой старик,
Не о таком болела ночью рана.
Как он попал сюда? И почему?
Снотворное не приносило пользы,
В сиротском обустроенном дому
Он загадал: «Что дальше будет? После?»
Под утро снился столь обрыдлый сон:
Чердак дощатый, потеснивший сосны.
Но он держался близ литых колонн —
Все сожаленья, в сущности, несносны.
Бильярд был в парке — доллар два часа,
Совсем недорого и по карману.
Но с кем играть? Дурная полоса,
И вечный аромат марихуаны.
Но после ночи утихала боль,
Он тут же добивал свои подставки,
Не получался только карамболь —
Шар в лузу падал, словно по заявке.
В неярком свете пристальных витрин
Он шел назад, раскуривая «Кэмел».
И вечера глухой ультрамарин
Иную жизнь в воспоминаньях пенил.
2005
Фонарный переулок
всем Штернам, с неизбывной любовью
Огромный, круглый стол и пол-окна,
Буфет, похожий на собор двуглавый,
И переулка темная стена —
Вот здесь мы собирались всей оравой.
Хозяйка, танцевавшая чарльстон,
И дочь-очкарик, да и зять-очкарик,
Разболтанный, но громкий патефон,
Герой-любовник — Драгоманов Алик.
Большой плакат: «Все будет хорошо!»
Горячие пельмени под сметану…
Достаточно, чего же нам еще?
Я это вспоминать не перестану.
Покойный кинорежиссер Илья,
И будущий нобелиат острили,
Конферансье здесь выступаю я —
Мы, как к себе, в квартиру приходили.
Еще никто не собирался в путь,
В Нью-Йорк, в Париж, в чужое захолустье,
И надо было только намекнуть,
Что завтра будет лучше, много лучше.
Мне не забыть Фонарный никогда,
Снимаю кепку, слезы вытираю.
Сегодня или завтра — навсегда
Явлюсь туда, и снова все узнаю.
Опять пластинка запоет чарльстон,
Опять отец заговорит о прошлом,
Опять со всех подветренных сторон
Повеет неизбывным и хорошим.
Опять я стану врать или дурить,
Припоминать катрены Гумилева,
Нам остается только ждать и жить.
А жизнь — вот здесь. Она на все готова.
2005
Батум
Каждый день я прихожу на пристань,
Провожая всех, кого не жаль,
И гляжу всех тягостней и пристальней
В очарованную даль.
С.Есенин
О, мой брат, поэт и царь,
сжегший Рим,
мы сжигаем, как и встарь,
и горим!
К.Бальмонт
Дождь над Батумом, две недели дождь,
а в номере так скучно, так уныло.
Надену плащ, открою плотный зонт,
и выйду, погуляю — не растаю.
Ноябрь над черноморьем, мутный вал
облизывает городские пляжи.
Безлюдно. Воскресенье. Я сижу
под скошенным брезентовым навесом,
курю и наблюдаю, как в порту
концы бросает знаменитый лайнер
«Абхазия», как яхта класса «звездный»
пытается поставить паруса.
И никого на километры пляжа,
ни одного прогульщика, бродяги,
какого-нибудь гостя на курорте,
освоившего мертвый сей сезон.
А дождь все хлещет, он стоит стеной
и размывает мелкую щебенку.
Мой плащ промок, и не спасает зонт.
Но за моей спиной цветная будка,
фанерная, должно быть, раздевалка,
неубранная после лета,
переждать в ней можно дождь.
Я отворяю дверцу и вижу —
на полу, на одеяле спит человек
в костюме «адидас»,
и я его потрогал за плечо.
Он встрепенулся, что-то пробурчал,
и поднялся, и сел на табуретку.
На шее у него висела фотокамера
известной японской фирмы.
Он не удивился,
и сделал некий жест как приглашенье,
и попросил немедля закурить.
«Кто вы такой?» — спросил я. — «Я — фотограф.
Фотограф пляжный. Вот уже неделю
работы нет, но я сюда хожу,
быть может, все-таки найдется сумасшедший,
и фото мне закажет, мне немного надо —
харчо тарелку и стаканчик чачи,
и сигареты «Прима» — вот и все». —
«Вы местный?» — я спросил. — «Нет, не совсем.
Когда-то жил в столицах я обеих,
заехал как-то вот сюда на отдых
и здесь остался. Скоро десять лет
как я живу в Батуме.
Летом все в порядке, полно клиентов —
только поспевай». — «А где живете?» —
«Я купил каморку на улице Дзержинского,
снимать жилье накладно. По сути
не могу я лишь без кофе,
варю себе чефир, а вот обедать
хожу я на базар, там есть одно местечко —
шашлычная «Эльбрус». Вы не бывали?» —
«Нет, не бывал». — «Весьма рекомендую —
такого хаша и в Тифлисе нет». —
«Быть может, пообедаем?» — «Нет денег». —
«Я заплачу». — «Нет, так я не привык.
Вот закажите фото, а потом
уже и угощайте». — «Что ж, идея!
Заказываю вам я сериал —
семь фотоснимков. Семь — мое число».
Внезапно дождь проклятый прекратился,
остатки туч рассеялись,
и над Батумом засияло солнце.
«Как вас зовут?» — «Адольфом, просто Адик». —
«А я Евгений». — «Вот и хорошо,
пойдемте к морю, я вас поснимаю».
И мы пошли и встали у волны.
Нептун смирился. Бирюзой и синькой
сиял простор до линии раздела
воды и неба. Лайнер бросил якорь,
и яхта скрылась, только гидроплан
из местного ДОСААФа пролетел.
«Вы чувствуйте себя совсем свободно,
курите, разговаривайте, а я пощелкаю», —
и он взялся за дело.
«А как же быть со снимками? Я нынче
в двенадцать ночи сяду на «ракету»
и перееду в Сочи». — «Я успею.
Я позабыл сказать вам, ассистент
есть у меня. Мы вместе и живем,
он все проявит, тут же отпечатки
он сделает, и все доставит вам
в шашлычную «Эльбрус» как раз к обеду». —
«Так скоро?» — «Через два, ну, три часа.
Вот я вас знаю сорок пять минут,
и что-то уже понял, вы довольны
останетесь». — «Да вы — Картье Брессон!» —
«А кто это?» — «Один французский мастер,
известный очень». — «Нет, я не слыхал,
ведь я не человек искусства, я — фотограф,
пушкарь, как говорили в старину». —
«А этот ассистент ваш, кто такой?» —
«Так приблудился, просто алкоголик,
нет ни семьи, ни друга, никого,
и паспорт потерял. И вот живет
со мною вместе —
уже четыре будет скоро года.
Бывает, чемоданы поднесет,
бывает, купит фрукты на базаре —
продаст на пляже, все-таки, доход.
Он лет уже немалых, сколько точно,
не знает сам. А впрочем, нелюдим,
за сутки может не сказать ни слова,
но я его терплю, душа живая,
хоть дышит кто-то рядом…
Все, готово —
отщелкал пленку я. Теперь пойду домой,
отдам в проявку и в печать. А в три
вам снимки он доставит на базар.
Я подойду попозже, есть дела.
Итак, до трех».
И дождь опять пошел,
и резко потемнело, и валы
с печальным грохотом обрушились на сушу.
И в этом мареве исчез фотограф мой.
Я глянул на часы — двенадцать двадцать.
Как время мне до трех убить?
Пойду и пошатаюсь по Батуму,
по набережной, а затем и в город,
зайду в галантерейный магазин,
там продают изделия цехов подпольных —
майки и носки нейлоновые,
лже-кашемир, лже-кожу, лже-вискозу,
куплю чего-нибудь недорого совсем,
и кофе выпью, три часа пройдут
за этим делом — все же развлеченье.
И я потопал. И как раз за спуском
от набережной к парку магазинчик
уютный и убогий отыскал.
Он тоже был безлюден, лишь кассирша
дремала в уголке. Я выбрал майку
с фальшивым лейблом, вынул кошелек,
хотел пробить свой чек и вдруг увидел,
что к кассовому аппарату
прислонен портрет его — знакомые усы,
мундир знакомый, и знакомый ежик
над низким лбом.
Я, как дурак, спросил: «Зачем он здесь?
Зачем он вам вообще?» —
«А он — великий человек, великий.
Какое ваше дело? Покупайте
товар и уходите». — «Но зачем
вы любите его? Он миллионы
убил невинных». — «Он убил мерзавцев.
Был дядя у меня, брат матери,
он стал меньшевиком в двадцать втором,
и он его убил.
Зачем подался тот в меньшевики?
Все по заслугам — расстреляли дядю.
Он немцев победил, чеченцев выслал,
он цены всякий год вовсю снижал.
И все его боялись. А теперь,
что, лучше разве?» И ушел я с майкой.
Опять на набережную я свернул
и в будочку сапожную уперся.
Починка обуви, и чистка, и — открыто.
Я заглянул, дремала ассирийка
за ящиком своим, я разбудил ее,
сказал: «Почисти».
— «Давайте, и простите — я заснула».
И я уселся в кресло, и она
достала гуталин. И вспомнил я:
его ведь называли Гуталином,
и за ее спиной увидел я
другой портрет — он с матерью и сыном
Василием, их кто-то написал,
наверно, на клеенке. Он — в мундире,
роскошном, маршальском,
Василий — в пиджаке, а мама Катино —
в одежде черной…
И замелькали щетки ассирийки,
и залоснились прахоря мои.
«Зачем он вам?» — «А я к нему привыкла,
вся жизнь при нем прошла,
вот без него и скучно стало». — «Боже,
ваш народ, древней, чем пирамиды и Эллада,
ну, что он вам?» — «Вам не понять. Без них,
без Тамерлана и Аттилы скучно!
Вот изгнаны мы из родной земли,
рассеяны по свету, чистим обувь,
живем неплохо, только скучно нам.
А с ним забавнее и веселее…
С вас два рубля…» И расплатился я.
И пролетело сумрачное время.
Я поспешил на городской базар,
а он еще как раз не разошелся:
вот горы изабеллы, груши бэра,
вот специи в мешочках, и ткемали,
аджика адская, домашнее вино,
молочный ряд, мясной и трикотажный.
Сменить носки промокшие — как славно!
Вот будка лотерейщика, газеты,
чурчхелы, вот коньячная бурда
в бутылках липовых — подделка местная
под знаменитой маркой,
наперсточники с грустными глазами,
а вот и мне назначенное место —
шашлычная «Эльбрус» — убогий домик
из плит цементных с ленточным окном.
И я вошел. И — нет свободных мест,
поскольку дождь еще не прекратился,
и здесь его пережидают за хашем,
лобио и шашлыком, ну и конечно,
за лучшей в мире чачей.
И вдруг я слышу голос: «Эй! Сюда!»
В углу я вижу человека в болонье
темно-красного, линялого оттенка
и в сванской шапочке. И он призывно
машет мне. Я подошел и понял —
ассистент. «Садитесь, я принес
заказы ваши». — «Так познакомимся», —
и я назвал себя. Он что-то пробурчал —
я не расслышал. Я крикнул: «Эй, батоно,
закуску, два харчо, два лобио,
потом два шашлыка,
бутылку чачи и вина бутылку».
И скоро появилось это все.
«Вы из Москвы?» —
«Да, из Москвы, но раньше
жил в Ленинграде». — «Я тоже там бывал».
И вот мы выпили, и закусили сыром
сулугуни жареным — закуски лучше нет.
Он жадно стал хлебать харчо, он, видно,
проголодался, да и я
не ел сегодня ничего с утра.
И я спросил: «А что, хозяин ваш придет?» —
«Придет хозяин, он опоздает, может, на часок».
Мы выпили еще по стопке чачи.
Душа открылась, присмотрелся я,
и облик ассистента стал мне ясен:
кавказское лицо, загар, щетина,
два зуба золотых и сивый ус,
что сильно обесцвечен никотином,
укутанное пестрым шарфом горло,
и — желтые, тигриные глаза.
Батумскую мы закурили «Приму»,
вполне приличный правильный табак.
Я поглядел по сторонам, на стенке
висело два десятка фотографий:
тбилисское «Динамо» перед матчем,
Пайчадзе молодой и Метревели
с ракеткой после сета, человек
в фуражке капитанской у штурвала,
жених с невестой где-то в местном загсе,
красотка из индийского кино,
и Буба Кикабидзе с микрофоном.
Последним на стене висело фото
туманное и старое. Оно
мне сразу показалося особым,
знакомым даже. Какая-то толпа, и впереди
с кустарным флагом молодой грузин,
обмотанный под клифтом пестрым шарфом.
Я наблюдателен, и я заметил,
что шарф такой сейчас на ассистенте.
Но мало ль одинаковых шарфов!
Вдруг ассистент сказал: «Хозяин этой
шашлычной — Нестор — давний мой приятель,
и у него хороший есть коньяк,
но для своих. Хотите, закажу?» —
«Ну, да, конечно». — «Можно двести грамм?» —
«Зачем же двести, лучше взять бутылку». —
«А вы щедры». — «А для чего нам деньги?
Потратим эти — новые придут!» —
«Вот это мудро, я вам отслужу», —
и он прикрикнул что-то по-грузински.
И нам на стол поставили коньяк —
совсем другое дело. Мы выпили,
и побежал туман перед глазами,
и огонь по жилам…
И я опять на это фото глянул,
и убедился — он передо мной.
Не только шарф, он сам,
тот желтый взор, тот низкий лоб,
та меленькая оспа.
Он сам передо мной коньяк мой пьет.
«Так это ты?» — спросил я напрямик. —
«Да, это я, а как ты догадался?» —
«А я внимателен, таков мой дар.
Теперь по кофе?» — «Кофе два, как надо!» —
он крикнул вдруг по-русски. Я подумал,
что он всегда хотел быть только русским.
«Так для чего убил ты миллионы?
Своих товарищей по партии убил?
Народы выслал? Прозевал войну?» —
«Ты хочешь, чтобы я сейчас ответил?» —
«Конечно, больше случая не будет». —
«Ты знаешь, я — поэт, и я — артист,
мне просто было интересно, как себя
вы поведете. Эх, люди, люди!
С моим портретом вы пошли на казнь.
Я ждал, что будет — вы не огрызнулись даже.
Баран, и тот бушует, приближаясь к бойне».
Я захмелел и погрузился в сон.
И кто-то по плечу меня похлопал,
очнулся я, передо мной —
фотограф высился и обаятельно
глядел в глаза мне. «Ах, простите,
задержался я.
Как хорошо, что вы меня дождались.
Дела я сделал — можно отдохнуть».
И он присел, и ноги протянул,
как понял я, натруженные ноги.
Смеркалось, и зажгли в шашлычной свет,
дождь, наконец, закончился, и люди
ушли, и до закрытия базара остался час.
И вдруг фотограф мой
сказал на неизвестном языке
мне что-то справедливое по звуку,
но я не знал, о чем он, и ответил
ему: «Переведи!»
«Нет, слишком я устал, — сказал фотограф, —
ведь я брожу уже две тыщи лет». —
«Я догадался, кто ты, — я сказал. —
Я заплатил за счет, где фотоснимки?» —
«Они в альбоме». — «Покажи альбом».
Он расстегнул клеенчатую сумку
и вытащил замызганный альбомчик,
и протянул мне. Я его открыл.
На первом снимке высилась Голгофа,
вот поцелуй Иуды, вот уже
легионеры римские, и Он,
не Агасфер, а Тот, Другой, Который
отправил в странствие соседа моего.
Вот крестоносцы в пышной Византии,
вот ночь Варфоломея, вот Цусима,
вот Робеспьер в Конвенте на трибуне,
вот казнь Людовика,
вот Данте и Вергилий,
вот Черчилль с автоматом на линкоре,
вот Чкалов, Байдуков и Беляков,
вот Ленин в шалаше, Зиновьев рядом,
вот Николай в Ипатьевском подвале,
вот Николаев поднял парабеллум,
Распутин и Юсупов, Мата Хари,
Мерлин Монро и Кеннеди убитый
в лимузине, и Гитлер в «хорьхе»,
а вот и ассистент на мавзолее…
И я закрыл альбом.
«А где же мой заказ?» — «Ты не спеши,
заказ со мной, но ты его получишь,
когда базар закроется». — «Что так?» —
«Ты распишись в квитанции сначала.
У нас здесь бухгалтерия своя,
мы чтим порядок». Он полез в карман
и вытащил измятую бумагу,
и я ее расправил. Боже мой!
Была написана она по-арамейски.
«Что здесь написано?» —
«А ты не догадался?» — «Нет покамест». —
«А здесь все то, что станется с тобой». —
«Что будет, если я не подпишу?» —
«Тогда мы отвернемся от тебя,
и ты сойдешь с тропы своей судьбы,
и проживешь чужую жизнь, и будешь
обманут ею». И я допил коньяк.
И я спросил: «А можно мне подумать?» —
«Подумай до закрытия базара,
тебе осталось двадцать шесть минут».
Буфетчик тяжко загремел посудой,
вошла уборщица и стала стулья ставить
на столики и мыть цементный пол.
И ассистент сказал: «Послушай, милый,
подумай, мы советуем тебе
все подписать, а если не подпишешь —
пропали твои денежки. Тогда
мы разойдемся. Ночью на «ракете»
ты уплывешь, и все пойдет как надо.
Но не узнаешь ты,
что мы тебе в квитанцию вписали,
и это томить тебя до самого конца
так страшно будет. Слушай, подпиши».
«Я закрываю», — заорал буфетчик.
«Я кончила», — уборщица сказала.
«Я подпишу, но ручку я забыл». —
«Не надо ручки», — молвил ассистент.
«Причем тут ручка?» — промычал фотограф.
«А как же? Кровью? Братцы, это пошлость!» —
«Зачем же кровью? Жизнью подпиши». —
«Подписываю!» — «Все, пора, пора», —
сказал буфетчик, и привстал фотограф,
и ассистент квитанцию схватил.
Мы вышли в полутьме, и я споткнулся.
Коньяк подействовал, я был изрядно пьян.
«Ребята, проводите в «Интурист»!
Но я стоял на каменном пороге
совсем один. Я к стенке прислонился.
Дождь перестал, фонарик одинокий
рассеянно светился над базаром,
прожекторы лучом крестили небо,
и только лайнер полыхал в порту
нарядными огнями. Я побрел…
……………………………………….
P.S.
И я вернулся в номер «Интуриста»,
и только там открыл конверт с заказом.
Семь снимков. Боже, что увидел я!
Вот враг мой мертвый — в церкви отпеванье,
вот первый друг на острове в лагуне,
вот лучший ученик в петле,
и мать моя стоит средь райских кущей,
моя страна в огне войны гражданской,
и я, предательски сдающий правду
во имя лжи…
Я — на своем кресте…
………………………………………………..
Но я опаздывал на позднюю «ракету»,
совал я в сумку в спешке несессер,
бумаги, шмотки и забыл конверт…
И больше никогда он не нашелся.
2005









|
Партнеры: |
| Журнал "Звезда" | Образовательный проект - "Нефиктивное образование" | Издательский центр "Пушкинского фонда" |
| Support HKey |