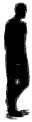 |
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ |  |
|
|
||
|
|
||
«Темен жребий русского поэта». Но каждый раз темен по особому.
Поэт Глеб Семенов (1918-1982) удостоился мучительной, но своей, ни на что не похожей судьбы. Он вырос, как говорится, в интеллигентской семье. Отчим – известный в 20-30-е годы писатель Сергей Семенов, погибший на Отечественной войне. Мать – актриса, чтица.
Глеб Сергеевич, по болезни не попавший в армию, пережил блокаду, тяжкую эвакуацию – тяжкую и физически, и морально.
В страшные 30 – 40-е он познал – и в разных ипостасях – страх, унижение, отвращение к низменности слишком многого в жизни. Поэт по преимуществу, русский интеллигент в самом точном смысле, он рано вступил в напряженно-сложные отношения с эпохой, литературой, страной. В нем удивительным образом сочетались самоотверженный демократизм, напоминающий о позднем Мандельштаме – «Я человек эпохи Москвошвея...», и поэтическая надменность, свойственная любимому им Ходасевичу.
«Странная моя судьба!» – горестно восклицал поэт Петр Вяземский, двадцать лет прослуживший по воле царя в министерстве финансов, кои были ему чужды и противны.
Глеб Семенов служил большую часть жизни. По воле нужды. Он мало печатался, у него было пятеро детей. Он много лет работал в Союзе писателей референтом, служил в учреждении, которое презирал, которое было ему противнее, чем крупному чиновнику князю Вяземскому его министерство. Только близкие к Глебу Сергеевичу люди знают, чего стоила ему эта жизнь, эта служба. Он, боготворивший литературу, видел ее ежедневное поругание, сведение на уровень циничного ремесла...
Он выпустил несколько книг, в которых были прекрасные стихи. Но остался полуизвестным. У него не было клаки. О нем писали серьезно, но чрезвычайно скупо. В его опубликованных стихах не было ничего, возбуждающего страсти. В них было слишком много сдержанного человеческого достоинства, скрывающего муку раздвоенности и постоянного подавленного негодования, чтобы они могли стать широко популярны. Но главное – каждая книга проходила столь частое решето, что оказывалась для него книгой второго ряда. Дело не в тех стихах, которые там были, а в тех, которых там не было. Тех, что выходят в свет в последнее время и составляют представляемую нами книгу.
Глеб Семенов, быть может, как никто понимал странную прелесть и угнетающий ужас нашей жизни, понимал мучительное наслаждение – противостоять, сохраняя живую душу.
Из этого понимания вырастала его поэзия. Время было так иезуитски и безнравственно жестоко к людям, что мы потеряли культуру страдания. Глеб Семенов – один из немногих, кто сохранил эту культуру в своих стихах. Он не был публицистом прежде всего. Но его тонкая и трогательная пейзажная лирика, его любовные стихи неизменно окрашены упрямым подспудным противостоянием общественному уродству. «На ваш безумный мир один ответ...»
Теперь, ретроспективно, худой, горестно сутулый Глеб Сергеевич напоминает мне мятежного Иова на пепелище нашей духовной жизни. Только объект мятежа – иной. «...О Господи, спаси слепое стадо...» Он много на себя брал в стихах – но без этого не бывает подлинной литературы. Камертоном его отношений со своей страной было отношение к ней Чаадаева и Пушкина. Русский интеллигент, несмотря ни на что сохранивший себя как русского интеллигента «перед лицом разнузданной тщеты», под ежедневным напором кровью чреватого лицемерия, он – говоря словами Ходасевича – имел «мучительное право любить тебя и проклинать тебя», «Россия, громкая держава». Как истинный поэт он сделал материалом поэзии наш быт и стал поэтом ежедневной нашей драмы.
Говоря о Глебе Семенове, принято обязательно вспоминать его педагогическую деятельность. Да, он обладал уникальным талантом литературного воспитателя. Да, его учениками считают себя известные ныне поэты. Но это, право же, отнюдь не главное. И говорить сегодня надо о выходящем на свет Божий трагическом русском поэте Глебе Семенове, в года глухие и бессовестные отстаивавшем, стиснув зубы, честь русской поэзии, честь русской демократии, жизнь на то положившем.
Недаром он умер рано.
Яков ГОРДИН
ПАРНОЕ МОЛОКО
(1937-1941)
2.
Едва я только спрыгну с поезда,
мне ветер – словно пес – на грудь.
Ромашки кланяются поясно
и зазывают отдохнуть.
Но вдоль покоса, мимо пахоты
иду я к дому над рекой,
где окна в яблони распахнуты,
а в чистых комнатах покой;
где хлеб, гордясь домашней выпечкой,
почил на кринке с молоком;
где самовар ворчит с улыбочкой
на песьи просьбы под окном;
где – каждой черточкой родимые –
отметки роста на дверях;
где погреб веет холодиною
и где чердак совсем одрях.
Дверные скрипы вспомню сразу я,
в морщинках прежних потолок. –
Все закоулки я облазаю,
не чуя под собою ног.
И, лишь умаявшись до лешего,
я опрокину в два глотка
за детство, в доме прошумевшее,
стакан парного молока!
11.
Не расстраивайся, не плачь,
утро вечера мудренее.
За рекою скрипит дергач,
стог нахохлился цепенея.
Провинился я, может, в чем? –
Передергиваешь плечом.
У тебя ли случилось что? –
Молча кутаешься в пальто.
В чистом поле сосна. Над нею –
самолет ли, звезда вдали.
Утро вечера мудренее.
Для тебя. Для нас. Для земли.
14. Молотилка
Ликуя посреди гумна,
она гудит без передышки.
У девок выцвели подмышки,
парней шатает без вина.
Струится в три ручья зерно,
поспешны золотые клубы.
И так сияют лбы и зубы,
что по углам темным-темно.
17. В дремотный лес...
В дремотный лес,
как в отчий дом, вошли.
Здесь тихо, бестревожно и отрадно.
И кажется – иходит от земли
настоенный на травах винный дух.
А над прудом – как в погребе, прохладно,
и свет, лежавший на воде, потух.
Здесь тихо, бестревожно; и покорней
листвы, чем под ногами, не найти.
Но наступи на спрятанные корни,
задень за узловатые коряги,
трухлявый ствол толкни
и ощути
упругость паутинной передряги. –
И ты услышишь гром за тишиной,
смятенье за спокойствием безгласным;
такой благопристойный мир лесной
предстанет исковерканным тебе –
дыханьем голубой болотной астмы
и слизняковой жадностью в грибе.
Большую птицу маленькими ртами
смакует муравьиная орда.
Безводья всеобъемлящее пламя
живьем сжигает серцевину дуба.
Поодаль возмужавшая вода
над почвою насильничает грубо.
В ногах у леса ползает трава
и, к солнцу заслоненному взывая,
уже едва жива, едва жива...
Забьется муха в ужасе, но вновь
прервет свой полузвук не сознавая...
У жидких кленов
горлом
хлещет кровь...
23. Приход скота
Иду я деревней,
и пахнет парным молоком.
Коровы качают рогов неуклюжие лиры.
И медленный звон колокольцев
вдоль улиц влеком –
языческий благовест
ежевечернего мира.
Иду я деревней,
и гуси вдогонку шипят.
Недавним дождем –
как на праздник –
отмыты пороги.
И бродят мальчишки
в тулупах овчинных до пят,
сухие следы оставляя на влажной дороге.
Иду я деревней,
и ты у калитки стоишь,
и кормишь овец
чуть посоленным хлебом
с ладони.
И теплое золото вечера капает с крыш
на грядки,
на спины телят,
в материнский подойник.
А я – горожанин
и вовсе с тобой незнаком.
Но вот уже сколько прошло –
я все помню и помню:
и ты у калитки,
и пахнет парным молоком...
я вовсе с тобой незнаком... –
Хорошо и легко мне!
24.
Дочери Наташе
Скажите, зачем и куда побежала
девчонка, бродившая сонно и шало?
Все было спокойно – и вдруг суматоха:
рванула калитку, захлопнула плохо,
вдоль пожни ногами сверкнула босыми,
воинственный клич испустили гусыни,
расставили крылья, и шеи – как змеи,
но только лишь пыль по дороге за нею!
Девчонка бежит, поправляя платочек,
и все придорожье вослед ей стрекочет,
и самые громкие в здешней округе
трубят петухи, костенея с натуги,
и под ноги яблоки падают с веток,
и плещутся ведра у встречных соседок,
лохматые шавки, отстать не желая,
и те уже, бедные, хрипнут от лая!
Мелькнул магазин, и правленье колхоза,
и школа, и клуб, и за клубом береза,
и вот уже рожью несется тропинка,
исхлестаны руки, слетела косынка,
все ближе большак с неслучайным прохожим –
таким долгожданным, таким нехорошим...
Девчонка вздохнула, помедлила малость,
метнулась навстречу и – ах, обозналась!
25
На тебе цветистый поясок,
к волосу положен волосок, –
ты прошла вечерней луговиной
словно солнца свет – наискосок.
Захотела к роще подойти,
я – как тень у солнца на пути;
легкий шаг замедлила, вздохнула –
дай дорогу, дескать, пропусти!
Друг за дружкой в рощу, след во след,
так мы и вступили, тень и свет, –
жаркий полусумрак, и меж нами
никакой границы больше нет.
А идем обратно сквозь лесок –
нависает прядка на висок
и никак не свалится листочек,
зацепившийся за поясок.
28. Луна дурачится
Когда деревня спит, и крыши
темней на фоне темноты,
деревья глуше, речка тише
и неразборчивей кусты,
когда с цепи по всей округе
собачья спущена тоска, –
луна откалывает трюки,
на землю глядя свысока.
Даваться диву, сколько прыти!
То, испещренная листвой,
на тонком прутике, смотрите,
висит с ухмылочкой кривой;
то, бесшабашно интригуя,
без проволоки, наугад
с одной антенны на другую
скользит над обмороком хат.
И – обязательная шалость:
побалансирует и вдруг –
как будто «ах не удержалась!» –
проваливается в трубу.
С минуту нет ее зловеще,
но, в слуховом блеснув окне,
вновь тут как тут – и рукоплещет
галерка звездная луне!
31.
Я разбужен июльским громом. –
Надо все-таки одуреть:
спутать крышу с аэродромом
и стараться мотор прогреть!
Сердцу весело и просторно,
мрак шарахается к дверям.
Вновь восторг четырехмоторный
и вибрация мокрых рам.
А взлохмаченная соседка,
чтоб не слышать ночной грозы,
перевертывает усердно
алюминиевые тазы.
39.
Печаль – как маленькая птица
в ладонях школьника – тиха.
Устало сердце колотиться,
гортань беззвучная суха.
Но где-то в пасмурном саду
о ней другая плачет птица...
Ты слышишь? – Пусть тебе молчится,
я за двоих слова найду.
45.
Что сентябрю от августа досталось?
Листвой владеет полная усталость.
Не выползает из оврагов мгла.
Сквозняк на раздорожье гложет спину.
И я – с трудом тащу свою корзину,
хотя она совсем не тяжела.
И вдруг через неделю – бабье лето.
Пошли грибы совсем другого цвета –
в любом пролеске, в рощице, в саду. –
И долго шли. И долго не хотелось
церковных галок слышать оголтелость
и что-то все свистелось на ходу.
51. Елка
М.В.
О детской елке, праздничной и скромной,
мы вспоминаем часто и теперь,
но уж никто из детской полутемной
нам не грозит, приотворяя дверь.
А за дверьми, чуть ветви разминая,
еще без украшений, без креста,
морозная, пахучая, сквозная,
от света зябко вздрагивала та,
что в лакомства, фонарики, хлопушки
являлась нам одетая всегда,
и радостно торчала на макушке
наивная, стеклянная звезда.
Но только нам приходится все чаще
не в теплой детской дома своего,
а на ветру, под елью настоящей
справлять свое скупое торжество.
Молчим ли мы за куревом привала,
поем ли под удары топоров, –
она стоит среди лесного зала,
спокойная, в дрожании костров.
Теперь она одета в грузный иней,
в стеклярус из окрепнувшего льда,
и светит нам примезшая к вершине,
суровая Полярная звезда.
ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ
(1941-1960)
52. Декларация
Не летописец, а тем паче
не агитатор, не трубач, –
я не унижусь до задачи
стоять на уровне задач.
Кто я такой, кто дал мне право
куда-то звать, кого-то весть
вперед налево ли, направо,
как будто лево-право есть?!
Да не возвышусь я вовеки!
В густом замесе бытия
все – люди, то бишь человеки,
такой же, стало быть, и я.
Боюсь ли, рыпаюсь впустую,
надеюсь, верую, люблю,
смеюсь и плачу, торжествую
и губы горестно кривлю, –
я весь живой, я весь подробный,
как иванов или петров...
Нас вместе
осеняют ромбы
скрестившихся прожекторов...
53. Марши
Маршами гремело радио,
город маршами загажен.
Нас победно лихорадило:
мы себя еще покажем!
Есть солдаты у Германии –
у России есть герои!
Марши голову дурманили
в дни большой народной крови.
Мы родились комсомольцами,
членские рубли вносили, –
пригодились добровольцами,
чтобы стать землей России...
58. Пепел
Столь едины мы не были с ним никогда.
Тонны пепла над городом.
Враг у ворот.
Города...
Что другие теперь города!
Здесь одна долгота –
безо всяких широт.
Длятся улицы...
Каменней день ото дня
ожиданье мое...
Это – с городом вместе
я обложен пожарами...
Это – в меня,
это целят в меня
из моих же предместий.
Шаг вперед...
Окруженному только вперед!
Город –
весь –
как солдатский мешок за спиной.
Жгут бумаги казенные –
враг у ворот.
Тонны пепла
над городом и надо мной.
60. Сны
Ах, эти сентябрьские ночи...
Сто зарев кругом Ленинграда...
Проспекты короче:
не дот, – баррикада!
Ах, ночи, когда еще снится
не зарево, просто зарница,
не дикие вопли сирены,
а тихие капли сирени...
... когда еще помнится-длится
щемящая нежность подруги...
Смешно запрокинуты лица
и страшно разбросаны руки!
А сны повторяются те же,
а сны превращаются в фильмы,
лишь нам удается все реже
досматривать их...
Ах, эти сентябрьские ночи!
Сто зарев кругом Ленинграда!
В потемках, не в ногу, без песен
течет и течет ополченье...
61. Ополченье
Памяти Миши Святловского
Добровольчество – добрая воля к смерти.
М.Цветаева
Пришел навестить, а казарма
в торжественных сборах с утра.
И осень в окне лучезарна,
и – вроде прощаться пора.
Ну, выпьем давай на дорожку –
чтоб немцу скорее капут.
Тебе уже выдали ложку,
винтовку – сказали – дадут.
Построили, как на ученье,
на подвиг тебя повели...
На полчища шло ополченье,
очкарики, гении шли.
Шли доблестно, шли простодушно,
читали стихи на ходу...
Как выстоять ей, безоружной
душе, в сорок первом году?
И вот – на каком-нибудь фланге
серо от распластанных тел.
По небу полуночи ангел
летел, и летел, и летел.
А я, в три погибели скрючен
(не так же ли на смех врагу?),
готовлю бутылки с горючим
и правды принять не могу.
69. Дождь
Сегодня дежурство дождя, и по крышам
идет он – ни каски на нем, ни плаща!
Мы письма сегодня чернилами пишем,
сегодня мы дышим, сегодня мы слышим –
бомбежки не будет: дежурство дождя.
На улицу носа не высунь сегодня,
буржуйка дымит, но не все ли равно:
сегодня мы пишем и дышим свободней,
чем если бы солнце светило в окно,
чем если бы праздник, чем если бы флаги,
чем если бы сводка хорошей была. –
Сегодня нам верится: есть у бумаги
два честных, два сильных, два белых крыла.
Не станет же цензор вымарывать строчек,
что, как никогда, вот сегодня, сейчас –
мы счастливы!..
Дождь по железу грохочет...
А все остальное – испорченный почерк
доскажет за нас.
70. Затемнение
Я ночной предъявляю пропуск,
луч в лицо – и фонарь погас.
И – безвременнейшая пропасть
разворачивается у глаз.
Ни предметов, ни расстояний,
никаких четырех сторон.
Сгинуть заживо в этой яме
я низашто приговорен.
Как шагнуть и не оступиться,
не наткнуться на темноту?
Затемнение – как темница:
рвись, доказывай правоту!
Сгустки тьмы на ногах по пуду.
Не ракетчик, не лиходей,
если выживу, добрым буду –
безо всяких таких идей.
Если выживу!.. А сегодня,
веком вышколенный не зря,
сам пырну я кого-угодно
узким лезвием фонаря.
78. Бабушка
Ах, что за бабушка была,
Евгения Васильевна!
Приду из булочной с угла
и сяду обессиленно.
Давно отчаяться бы мне,
и не могу отчаяться!
Дом на большой взрывной волне
качнется, закачается, –
коснется клавишей она –
и я куда-то падаю,
и еле брезжится война
за Апассионатою.
Подсушит ломтиками хлеб
и усмехнется благостно:
ах если б да на всей земле б
да всем такое б лакомство!
И, словно на вечер гостей
ждет множество великое,
полуприляжет на постель
с поваренною книгою.
А кран едва кровоточит,
и – как кишка голодная –
на кухне жалобно урчит
труба водопроводная.
83. Арифметика
Закапывать без креста
трое
везли
двоих.
Дорога была проста.
И совесть была чиста.
И солнце любило их. –
А с Кировского моста
двое
свезли
троих.
86. Концерт
Т.Ю.Хмельницкой
Собираются дистрофики
в довоенный этот зал.
Ветерок недоумения –
кто же их сюда зазвал?
Не обещано им ужина,
ничего не купишь тут.
Ломтик хлеба нержавеющий
дамы в сумочках несут.
Вверх поглядывают искоса:
свод непрочный, свод большой.
Молча хвастаются ватником
между шубкой и душой.
Кресла ежатся от холода,
половина их пуста.
Гордо валенками шаркая,
на шикарные места.
Скрипачи вползли бесполые,
дирижер за ними вслед.
Закивали им из публики:
сколько зим и – скольких нет!
То ли были, то ли не были
легкий взмах и трудный вздох.
Не имея сил откашляться,
зал качнулся и оглох.
Не имея сил расплакаться,
сердце вышло за предел.
Непреложный голос вечности
всем пространством завладел.
Отрубил все злые призвуки,
жалкий ропот приструнил.
Лейтенантик забинтованный
память в руки уронил.
Через толщу затемнения
мир забрезжил голубой.
Нимб дыхания сгущенного
встал над каждой головой.
СЛУЧАЙНЫЙ ДОМ
(1942-1944)
88.
Лужи, тают облака в них.
Окна, вечером светло в них.
Это точно – я блокадник,
а еще точней – колодник. –
Хоть я не был, вроде, вором, –
Память – страшный мой конвой.
И кружит, как черный ворон,
самолет над головой.
95.
Я – тыловая крыса.
«Люди – они на фронте,
а этот – в своей постели
спит со своей женой...»
Бабы глаза ей колют.
Скажет она: «Не троньте!»
Заплачет она: «Неправда,
он у меня больной!»
Бабы ярятся пуще:
«Руки и ноги целы!
Годен детишек делать –
годен и на войну!..»
Словом, я окопался.
Местные офицеры
за женщину не считают,
обходят мою жену.
Весь день над столом сутулюсь,
а ночью – одно и то же
снится:
перед сержантом
встаю, как на пьедестал:
«Есть прикрыть отступленье! –»
и сонный восторг по коже...
Снится, что стал я годным,
хоть на смерть
да годным стал!
108.
Плечи солнечного обжига
и ложбинка вдоль спины.
Губы, пьющие из ковшика,
будто чем обведены.
Платье так и не накинуто –
окунуться бы в зорю...
Ах, не теми все какими-то
я словами говорю!
Просто сердца замирание,
как на выдохе волны.
... Вот какое было раннее
это утро до войны!
110. Мечта
Когда враг скиснет...
Четырехлетняя дочка
Мне хочется домой, в огромность
Квартиры...
Б.Пастернак
Ждет скитальцев давний дом.
О рассохшийся скворешник!
Дверь, открытая с трудом,
в перескрипываньях прежних.
Затемненья полумрак,
недобитая посуда...
Свиснет рак ли, скиснет враг –
мы вернемся, мы отсюда!
Кран с опаской повернем,
обомлеем, что закапал. –
Праха с ног не отряхнем –
как вернемся, сядем на пол.
На состарившийся пол –
разбирать свой пыльный почерк...
Кто сказал, что нужен стол
для храненья слов и строчек!
И опомнимся не вдруг,
и припомним, как любили...
И – блаженнейший испуг:
чайник выключить забыли!
Потеряем всякий стыд,
и – воистину мажорный –
о победе возвестит
водопада шум в уборной.
112. Прусаки
Тараканы сделаны из жести
мастером готических времен –
для поползновений и нашествий
каждый их сустав поворонен.
Хлеб они едят без приглашенья,
попирают наши животы,
шевелят усами в довершенье
вековой своей неправоты.
Воздух то ли шорохом источен,
то ли скрежет в воздухе висит...
Женщина проснется среди ночи
и по-вдовьи вдруг заголосит.
114. Бутылка молока
Вроде повезло ей, тетке Даше –
получила сразу два письма.
Радости-то сколько, если даже
и не больно грамотна сама!
Поросенку хряпы нарубила,
молока поллитра нацедила,
справила домашние дела
и ко мне, нарядная, пошла.
Вскрою треугольник, прочитаю:
«Лично всем поклоны...
жив-здоров...
бью проклятых гадов не считая...
гвардии ваш сын Иван Бугров».
Развернув, начну письмо второе:
«Пишут вам товарищи героя...»
Тетя Даша смотрит на свечу.
Пересохло в горле – и молчу.
Слышит? Нет, задумалась о чем-то.
Даже улыбается слегка...
... Что же я не смахиваю к черту
со стола бутылку молока?!.
118. Трудовые резервы
Они приходили со смены –
снимали казенные куртки,
ладони скоблили степенно,
солидно гасили окурки.
И, как подобает мужчинам,
в столовке устало и гордо
картошку на масле машинном
уписывали в три горла.
Потом выступали хрипато,
клеймили кого-то за что-то,
и были не просто ребята,
а все, как один, патриоты.
И чтобы как сталь закалиться,
потели в холодном спортзале;
потом – на второй же странице –
у них одеяла сползали.
И не было дома на свете
роднее вот этой казармы...
И маршал курил на портрете,
довольный и лучезарный.
126.
По одному приходят, по двое.
Деревню крутит самогон.
Дворняги взлаивают, подлые, –
их вразумляют сапогом.
Кто без ноги, а кто с контузией, –
отвоеваться бы, кажись!
А уж кого-то отволтузили,
поговорив сперва за жисть.
То председательшу по-матери,
то нам харкотина вослед. –
Не то чтоб злости не истратили,
но что за шум, коль драки нет!
Кто спит с женой, а кто с невесткою –
эк, без братана извелась!..
... А ну ругнись-ка на советскую,
на кровью политую власть!
ПРОХОЖИЙ
(1945-1949)
144.
С поля Марсова вдоль Мойки
растеклась голубизна.
Вижу, пленные на стройке
тихо жмурятся: весна.
Даже фрицы, даже фрицы
загляделись на стрижей.
Вот какой-то жалколицый
улыбнулся до ушей.
Пусть, заметив конвоира,
поперхнулся и – молчок. –
Необъятный воздух мира,
он коснулся наших щек!
О, не тот внезапный «Воздух!» –
где стоишь, там и ложись.
Он – в деревьях, в птичьих гнездах, –
не бессмертие, а – жизнь!
146. Дирижер
У дирижера крылья за спиною,
два черных лакированных крыла.
Когда бы освещение дневное,
он походил бы на орла.
А так – геометрические жесты,
вторжение в последующий звук,
и все – от первой скрипки до челесты –
ему, как воздух, дарят свой испуг.
Он не парит – царит, а это хуже!
Невнятные комочки тишины,
он наши для озвучиванья души
берет, и мы кивать ему должны.
Сидим – льстецы, сквалыги и неряхи,
невыносим смычковый гнет,
и раболепствуем, и пребываем в страхе:
а вдруг он их за мелкостью вернет?!.
151.
Мальчик стал вежливым мужем,
девочка матерью стала.
Больше не ходим по лужам,
по переулкам устало
больше не кружим.
Служим тщете и минуте,
целыми днями в закруте,
даже целуемся вяло.
Перипетий-перепутий
как не бывало!
Не пребываем в истоме,
не уповаем на случай... –
Все как положено, кроме
чувства бездомности жгучей
в собственном доме.
152. Прохожий
Порадуйся, прохожий, за меня!
Мой день окончился и вечер на исходе,
я без забот до завтрашнего дня.
Подумай только: я – и без забот!
Пускай закат был красен к непогоде,
перебежал дорогу черный кот, –
все будет завтра: ветер, слезы, встречи...
Да что бы ни было, не все ли мне равно, –
все только завтра ляжет мне на плечи!
Сегодня же шагаю без разбора,
и ноги промочил давным-давно,
и все прочел афиши у забора, –
чертовски хорошо!.. А ты, дружок,
ты, современник мой, ты, будничный прохожий,
ты – разве не промачиваешь ног? –
Ну-ну, ступай, простимся на мосту...
Все фонари между собою схожи
и ни один не примешь за звезду.
154. Свет в окнах
По окнам различаются дома.
Вот голубой, вот розовый уют.
Где молятся, где плачут, где поют,
где хлеб жуют, где карты раздают,
где выживают из ума.
Старухи руки в боки. Старики
с подтяжками свисающими. Дети,
которых водружают на горшки. –
Бесхитростные кинокадры эти
о людях повествуют по-людски.
Ну что придумаешь честней
раскрытых настежь окон, их теней
и отсветов! – Поверх толпы понурой
слежу – как скрытой камерой – за ней,
за жизнью, не порезанной цензурой.
165.
Молиться – было бы кому!
Молился шагу твоему,
плечам твоим, твоим коленям.
А ты, внимая с удивленьем,
витала в будничном дыму,
и чуда не было... Молиться!
Ах, только было бы кому...
Себе молился самому:
не ясноликий – празднолицый,
и суесловный потому.
Весь век шагаю по дороге
из полусвета в полутьму –
то взгляд свой к небу подниму,
то обниму березе ноги...
Молиться... только бы кому!
169. Переводя северян
Мы бродили белыми оленями,
звезды поднимали на рога.
Преклоняли под вечер колени мы
и ложились в теплые снега.
Наших душ не выдумаешь чутче,
не найдешь нежнее наших губ...
Где-то у костра – на всякий случай
пробует веревку душегуб.
Мы уйдем и завтра от погони.
Только все равно когда-нибудь
нам под равнодушною ладонью
равнодушно голову нагнуть.
Ничему противиться не будем.
Лишь глазами, выстланными мглой,
мы через плечо заглянем людям
в лица, выпачканные золой.
И помчим под свист бича веселого,
вспоминая только на лету,
гордость, поднимавшую нам голову –
звездную – единственную – ту...
170. Творчество
Из мухи делаю слона.
Вот с потолка берется муха.
Вот наугад, посредством слуха,
к ней подбираются слова.
Вот присобачиваю к ней
мотив – услышанный ли, свой ли, –
и слово каждое – как в стойле,
а мухи нету, хоть убей!
Её ничтожный хоботок
в заправский вырастает хобот,
отпали крылышки, и топот
мне отдается в левый бок.
Несется слон, во всю трубя,
зевак попутных восторгая...
А муха просится другая
помочь ей выйти из себя!
171. Бабочка
Что общего, судите сами,
у этой бабочки со мной?
Летит под всеми парусами
и весел час ее земной.
Обворожительное тело
обрушит в омут василька... –
А я бреду себе, вспотела
тяжелая моя тоска.
Но – сходство есть, вернее – будет:
мозгляк какой-нибудь незлой
на муку бабочку осудит,
к бессмертью пригвоздит иглой. –
Как знаю этот сладкий холод,
что расправляет нам крыла!
... Я пальцем Божиим приколот
к доске случайного стола...
183.
Обрушиваются горы...
моря на дыбы встают...
Наш быт – продувной и голый,
и жалок чей-то уют.
Найди-ка по белу свету,
где тишь была бы да гладь? –
А кто-нибудь на планету
двуспальнейшую кровать
поставил и усмехнулся:
знай наших!
А между тем –
сбивает удары пульса
подрагиванье стен
толстенных; вода под краном
тяжеле воды живой. –
Уютовладельцу – странным
покажется мир с женой!
Конечно же, дело плохо:
уже, может быть, в четверг
оскаленная эпоха
скомандует «руки вверх!»
188. Рассвет
Пронизываемый ветром
закуриваю, курю.
И рельсам вослед рассветным
прищуриваясь смотрю.
Струятся продолговато
вдоль улицы заревой
и сизый на розоватый
оттенок меняют свой.
Из-за спины беспутной –
чем ближе, тем все быстрей –
меня догоняет утро,
и брызги – до фонарей.
Не улица, а стремнина:
несет, но не ветер, нет –
как в парус, в тугую спину
неистовый бьет рассвет!
ПОКУДА ЖИВЫ...
(1952-1956)
205.
Хозяйку звали тетей Дуней.
Каким нас ветром занесло?!
Она была из тех колдуний,
что заговаривают зло.
Кормила добрыми грибами,
за кринкой лазила в подвал.
И ейный бог субботней бани
нам сердце легкое давал.
Просторней становились пожни,
и дождь дошел уж до того,
что и на темном все ничтожней,
все реже промельки его.
Он на протянутой ладони
почти следов не оставлял.
И только дымом пахло в доме,
да мальчик в ботиках гулял.
А тетка Дуня все глядела
сквозь проржавевшую листву:
один почтарь, смешное дело,
был неподвластен колдовству!
206.
Чуть за город – лес да поле,
да церковка без креста.
Одна ведь у нас недоля,
страна моя, маята!
Одна на двоих обида,
терпения пополам.
Обоим от инвалида
в пивных достается нам.
Нам поровну мало хлеба,
а зрелищ – невпроворот.
Но ты и пустого неба
отлей от своих щедрот.
Пошли, чтобы с кем-нибудь я
прошлялся до сентября,
прохожего на распутье,
похожего на тебя.
Да в нищенской позолоте
(не так ли сама горишь?)
соломенные лохмотья
твоих предзакатных крыш.
209.
Наш век. Наш город. Я в гостях.
Беседа как беседа.
Какой-то, может быть, пустяк:
застольных два соседа.
Один – красив и развесел,
и горд, что вышел в люди.
Ему в солонке разве соль
и разве хлеб на блюде!
Другой – как будто глуховат
для здешней речи птичьей.
Но вот он буркнул наугад –
и обернулось притчей.
Не время распылять свой пыл,
от споров толку мало.
И только водку каждый пил
так, что судьба вставала.
214. Зависть
Были камни. И были травы.
Были кони. И были версты.
Люди были как люди –
правы.
Звезды были как звезды –
звезды.
Были судьбы. И были вихри.
Были сабли. И были рубки.
Били наших, рубили ихних –
тех и этих стреляли:
русских.
Звезды плыли, а люди пили.
Жизнь любили, и так любили.
Были души.
А их убили.
И победу по ним трубили.
Были души краснее крови,
а мечта была цвета белого.
В мире многое было,
кроме
той лишь правды, что мира не было.
За Россию свою в ответе
спят рубаки и трубачи. –
Мы живем –
всех убитых дети –
и завидуем, хоть кричи!
ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА
(1956-1957)
228. Воробьиная ночь
Зарница...
У окна стою...
Зарница...
И снова жду...
И тишина...
Тебе, наверно, даже и не снится,
как мне сегодня не до сна!
Безгромно содрогаются просторы.
Сто верст зеленого огня.
Не телеграммы –
все леса и горы
на побегушках у меня.
Я над тобой распахиваю небо
любовью – памятью – тоской.
Сейчас и двадцати не дали мне бы,
а я и в сорок – все такой!
Что делать,
мне теперь уже едва ли
стать современней и умней.
... О если б так высоко тосковали
о спящей дочери моей!
234.
Не пытайтесь, не уснете:
ночь исходит свистом –
на одной дрожащей ноте,
медленным и чистым.
Ах, с восторгами июня
никакого сладу! –
Будто девочки-шалуньи
по ночному саду
все ходили да шутили,
вздумали смеяться, –
по свистульке проглотили
и дышать боятся.
235.
Вспугнутый молчаньем соловьиным,
я очнулся, и очнулась ты.
Запах тишины по луговинам
пили, встав на цыпочки, цветы.
Брезжило ветвистое сознанье,
приходил в себя рассветный сад.
В замысле едином – вместе с нами –
мир лежал, раскрытый наугад.
Значит, я не только существую,
ты не только – капелька весны, –
в вечную поруку круговую
на мгновенье мы вовлечены.
246.
Не пойму, откуда у меня,
выкормыша камня и железа,
эта нежность к синей кромке леса
к жаворонкам медленного дня?
Не охотник я, не рыболов,
не ботаник по образованью:
не ищу я точного названья
даже для тебя, чертополох!
Сколько б этажей не возвели
посреди вчерашнего болотца –
есть еще на свете, остается
неучтенный краешек земли.
Отпыхтят, отстанут поезда,
и ничуть не стыдно перед веком
оказаться просто человеком,
да и то идущим никуда!
ДЛИННЫЙ ВЕЧЕР
1961-1964
Посвящается Наталии Охотиной
249. Семейная баллада
Л.Мочалову
Придешь усталая. Пальто
на спинку стула бросишь.
И спросишь, не звонил ли кто,
на кухне переспросишь.
Ты делового ждешь звонка –
Ведь ты же не девчонка!
Твоя рука, моя рука,
ну, и еще – ручонка!
И только в голосе твоем
невнятная зевота.
Садимся ужинать втроем,
и словно нет кого-то.
Не ждем гостей, не ждем вестей,
молчим под детский лепет.
А сын тем временем чертей
уже из хлеба лепит.
И телефонный вдруг звонок,
уверенный, негрубый.
И ты со всех несешься ног,
облизывая губы.
Я щелкну сына, чтобы ел,
чтоб занимался делом.
Вернешься – и повеселел
твой взгляд, помолодел он.
Пройдешься этак озорно,
с пристуком по квартире:
– А не пойти ли нам в кино?
... А правда, не пойти ли...
253. Ревность
Ничем не попрекаю... Ни о чем
не спрашиваю... Ничему не верю...
Я отпираю дверь своим ключом,
потусторонне в зеркале кривею
и – круговой порукой вовлечен
в ночную тихость и неузнаванье –
отгадываю комнату свою. –
Твое белье сияет на диване
бесстыдством и наивностью...
стою...
ты окликаешь сонными словами...
со мной бок о бок шкаф глухонемой...
слепые руки тянешь... и честнее
забыть бы все обиды...
Боже мой!
Спи... Я не здесь... Я ничего не смею...
Ты спи... Я не пришел еще домой!..
268.
Встречались мы и расставались.
И, повторенные стократ,
шаги ночные раздавались
вдоль набережных и оград.
А улицы все не кончались,
тянулись от зари к заре.
А пристани всю ночь качались
и в августе, и в сентябре.
А люди жили и кружили,
и накружиться не могли:
дружили – и не дорожили,
любили – и не берегли.
И отсветы электросварок
прохватывали их насквозь,
швыряли их на своды арок
и распинали вкривь и вкось.
И плакали они, и пели,
и умирали от любви.
... Остановить бы все в апреле!
Попробуй-ка останови...
269. Одиночество
Который день одна и та же
тоска на ужин!
Среди ночных многоэтажий –
ну кто мне нужен?
И кулаки мои оббиты
о дверь какую?
Четырехглазый от обиды,
сижу, кукую.
На кухне затевают свару
от лютой скуки.
За стенкой мучает гитару
дочь потаскухи.
Девчонке, вроде, и немного,
всего пятнадцать,
но как такой вот длинноногой
не запятнаться?
Старухи шаркают за дверью.
Любая – сводня...
... Ах, почему я так не верю
тебе сегодня!
И не хочу твои печали
считать моими!
И не могу пожать плечами,
как в пантомиме!
И даже выругаться грубо
не удается!
И сердце в тишине –
как рыба
об лед
бьется!
272. К нежности
За окном темнеет, скоро девять.
Ни о чем не помнится, ей-ей!
Как ей жить, бедняжке, что ей делать,
вдовствующей нежности моей?
Вдовствующей...
Слово-то какое!
Черный бархат, бледная рука...
Сядет у камина и щекою
к пламени подластится слегка.
Скоротать вдвоем бы этот вечер,
погрустить, поплакать... Только вдруг,
раз уж я тебя очеловечил,
нетерпенье выпустишь из рук.
Пять минут на сборы... к черту ужин...
настежь дверь... на улице ни зги...
Утром будет след твой обнаружен
где-нибудь в предместии тоски.
Факелы... доспехи... гул погони... –
Третий век показывают мне
отпечаток маленьких ладоней
на случайном камне-валуне.
273.
Вот женщина, которую люблю.
За нею следом вьюга – у-лю-лю.
Фонарь скрипит... А переулок спит...
Вот женщина – глоток моих обид!
Горячий и соленый мой глоток!
А переулок спит... Фонарь скрипит...
Заиндевел у женщины платок.
А под ногами – лед моих обид.
Полварежки всего-то и тепла...
Скользи до следующего угла...
Ах, если бы забыть, как ты любила:
вот падаешь, а было два крыла!
274.
Сделайте мне операцию,
вырежьте память!
Пусть на костыль опираться
буду...
в пивной горлопанить
буду...
чужими губами
девку мусолить...
и в бане
парить культяпку души...
Только и света на свете –
дети!
Господи, как хороши!
276.
Глухо у нас во дворе в декабре.
Целая вечность еще до развязки.
А в коридоре, в мышиной дыре,
споры и ссоры, песни и пляски.
Так и живу себе, так и молчу.
И на прогулке
может похлопать меня по плечу
каждый фонарь в переулке. –
Мол, разлюбезное дело – не спать!
Челюсти сводит: заснуть бы...
И до рассвета вникаю опять
в чьи-то хвостатые судьбы!
Там свои шлюхи, свои дураки,
даже мыслители, даже евреи...
Так и живу себе...
И – ни строки! –
Этак хитрее!
Сердце сбивается – не беда...
На то и сердце, чтобы сбиваться!..
Самое страшное,
это когда
стихи начинают сбываться!
277.
Э.Линецкой
Подумать, так всего-то и делов,
что перышком царапать по бумаге!..
А по углам растет болиголов,
висит туман, как вечером в овраге,
булыжник вместо сердца,
и в ушах
бессвязный звон, зубная боль вселенной...
Сижу и понимаю: дело швах!
По тишине хожу четырехстенной.
Все словари бессильны мне помочь,
трепещут крылья маленьких молчаний...
В сто тысяч глаз следит за мною ночь:
с булыжником над пропастью печали
стою,
туманом памяти обвит,
заполонен зубным знобящим звоном...
А ночь в окне – усмешечку кривит:
попробуй-ка сложи по всем законам
свою судьбу, затисни в душный ямб
живую душу,
зарифмуй эпоху!..
Из пушек по одним лишь воробьям
бьют будто бы?!
Молись-ка лучше Богу!
Другого не придумано – молись,
тупой солдатик ядерной идеи!..
Передо мной – стерильно белый лист,
и трупики окурков холодеют
в пепельнице...
278.
Ах, какая тоска! –
Как треска –
замороженная...
как доска –
колесом искореженная...
как часовенка брошенная...
Так же к Богу близка!
ЧУДО В ТОЛПЕ
(1958 – 1967)
Перекресток, 1958
285.
На перекрестке наскоро – до скорого!..
Пусть будет скорое не скорым, –
не унижаться же до сговора!
Ладонь в ладонь – всего желая доброго...
Пусть будет доброе не добрым –
другого слова не подобрано!
И вот – затурканы, затолканы,
не зная, встретимся ли толком...
А город сплошь истоптан кривотолками
о нас с тобой!..
288. В дорогу
Возьми...
Не белесую пасмурь,
не парус поверх испарений,
не пристань у моста,
не взрывоопасный
на Марсовом шорох сирени,
не привкус, –
не приступ тоски,
и не поступь
беспутную – пито ли, пето,
не память
на то, чего нету,
все просто:
проститься – как платье в дорогу
отпарить...
Пускай только тронется поезд, –
да будет –
не почерк непрочный,
не адрес напрасный,
да будет с тобою
мое удивленье, молчанье и радость!
289. Мачты
Е.К.
Улица твоя начинается мачтами.
В низкое небо впечатанные, –
выйдешь из дому – все маячат они,
возвращаешься – все молчат они...
А ночью море им снится яркое.
Сняться их подмывает с якоря.
Ночью – слышишь? – вскипают яростно
паруса в три яруса!
И солнце, и ветер, и дальние страны,
и страхи, и страсти, и странствия...
Даже самим немножко странно,
какая душа у них страстная!
– Ах, мы не камни, чтобы терпеть,
чтоб на приколе стариться... –
... А тебе? Что снится весной тебе,
голенастая моя скиталица?!
293. Когда не спится
Я когда-нибудь снюсь тебе, нет?
Скажем, в комнате плаваю, или
прохожу сквозь предмет,
выхожу из предмета,
или струйкою солнечной пыли
фехтовать начинаю со шкапом,
о котором забыли, –
он свечкой закапан,
он затхлого цвета;
... или даже пускай не героем,
а старьевщиком в кухне
(все ведь можно во сне!),
и глаза мои, видишь, потухли,
и мешки под глазами набухли,
я беру твои бедные туфли
по сходной цене –
“мы их лучше зароем!” –
говорю (все ведь можно во сне!)
и подмигиваю –
хоть подметку да выговорю!..
... или, может, совсем дураком
я за девочкой бегаю
и бебекаю –
б-бе-е,
и мемекаю –
м-ме-е,
а тебе (я себе на уме!)
разобщенным грожу языком...
Я когда-нибудь снюсь тебе, да?
Пусть не так, как пустыне – вода,
расстоянию как – провода,
расставанию – слово “когда”,
но когда-нибудь
как-нибудь
снюсь?
Пусть как счастью – беда,
мертвый пусть –
не боюсь!..
А боюсь, что не снюсь никогда...
294. Электричка
... С некоторых пор
бессовестно укачивать меня,
как раньше, электричка перестала.
Не ересь детективная, не смех
картежников, не болтовня попутчиц
тому виной.
Одной лишь неприкаянности ради
за черное стекло смотрю – и вижу
себя и сквозь себя огни, огни.
Вблизи, вдали –
проносятся, проходят, проплывают
через меня. А я все остаюсь,
приговоренный к жесткому сиденью
среди вагонной одури, без права
курить.
Не попадая в рукава,
в конце концов
я встану, выйду в тамбур, закурю.
В распахнутую дверь через минуту
ворвется ночь. Какая-то платформа
во всем своем безлюдстве, с фонарем,
замедленно рискнет остановиться
передо мной.
На двух тенях метнусь, как на ходулях,
и дух переведу.
Полсотни окон
бесшумно проструится по ногам
в другую зону. И над полустанком,
на месте непредвиденных созвездий,
которых жду,
возникнет снова
раз и навсегда
компостером проколотое небо.
Собака где-то лает – не услышу.
В фуражке красной женщина смеется –
не загляжусь.
Шершавинку обратного билета
нащупаю в кармане и пойму,
насколько все идет по расписанью.
Айда, дружок! Смелей переходи
на противоположную платформу!
Есть гордый смысл –
в полупустом вагоне возвращаться,
искать скамейку – ту, что потеплей,
с прекрасно обезличенным лицом
за черное стекло смотреть и видеть
себя, огни,
и молодые губы, до которых
не дотянуться...
Ночное такси, 1961
295.
Встал на камень, встал на камень –
вижу самый круг земной!
Даль искромсана сверканьем
в стороне твоей лесной.
Там лучи с дождями рубятся.
Страшно ангелы кричат.
Лиловеющие рубища
тучи понизу влачат.
Ах, зачем оно открылось,
это небо надо мной!
Вот стою – и вся бескрылость
громоздится за спиной.
299. Ночное такси
Сквозь огни, сквозь туман
мы идем, гулёны,
сам подкатывает к нам
ночничок зеленый.
Легкий домик твой, такси,
ни богат, ни беден!
Ты фонарик погаси,
мы сейчас поедем.
Ездит в домике любой,
он для всех удобен.
Вот сейчас мы с тобой –
постояльцы в доме.
Постояльцы, поезжальцы,
покатальцы просто так...
Ты, шофер, над нами сжалься –
не разговаривай, чудак!
Не разговаривай, чудак, –
все совсем не просто так!
Это кажется, что просто
все бывает у людей...
... Мчат навстречу нам, по росту,
фонари с площадей.
Фонари... фонари...
отсветы по лицам...
ничего не говори –
пусть все это длится!
Этажи... этажи...
Лишь ладони потуши
о мои ладони...
Убегают две души
от одной погони!
301.
Караульщик снов твоих, не сплю.
Мне сейчас бы колотушку в руки!
Пусть услышат, как воров ловлю,
как люблю, – услышат пусть в округе.
Жаль – нельзя: ты еле-еле спишь.
Даже капель, падающих с крыш,
я боюсь и голос подающих
электричек...
Двери на засов,
и не сплю – твоих пугливых снов,
слов твоих счастливых караульщик!
302.
А мы не устаем
все время быть толпою:
и не вдвоем с тобою –
на свете мы вдвоем.
На все четыре стороны,
навстречу всяким случаям –
пока не арестованы
тупым благополучием.
Купе или каюты,
транзитные уюты.
Чужие номера,
комфорты до утра.
Двугривенный в кармане,
вокзальное тепло.
Не обращай вниманья,
что с туфель натекло!
Весь белый свет распахнут,
зачем же видеть пятна?
Вон даже хлебом пахнет
из булочной бесплатно!
Городской романс, 1964
307.
Заглядывать в чужие окна,
на фонари загадывать...
Шатанья за полночь – не догма,
но и кровать – не заповедь!
Броди до света, береди
забывшееся за день.
Две бедных тени (впереди
одна, другая – сзади!) –
под стать душе раздвоенной –
по городу с тобой.
Бездомное родство его
прописывает боль
то где-то посреди моста,
то на пустынной площади...
А в горле косточкой – звезда, –
ничем не прополощете!
309. Городской романс
Два кусочка города, живем
гордые – в асфальте дождевом,
бледные – в неоновом раю,
тихие – разлуки на краю.
Прячутся в деревьях фонари –
ты моя подсветка изнутри.
Мечутся экспрессы по стране –
ты щемящим отзвуком во мне.
Гривенник я в воду уронил –
тонет возле берега звезда.
... Не навек ли нас соединил
ужас разведенного моста?..
310.
Довольно помудрил –
пора и помудреть.
Имел я пару крыл –
двуногим буду впредь.
Я выйду из-под звезд
навстречу фонарю.
На разведенный мост
взгляну – и закурю.
Лети, дымок, лети
в обнимочку с душой!
Еще идти-идти,
проспект большой-большой...
311.
Чем твои наполню горсти?
Что возьму себе на память?
Приходи сегодня в гости,
дождь по стеклам барабанить
я заставлю для тебя,
лампу я заставлю книгой
от тебя, чтобы дремала...
Так уж разве это мало –
вечность вместо октября?!
Приходи сегодня в гости,
награди меня обидой.
Все слова уже – как гвозди:
столько в стены эти вбито
слов, торчащих вкривь и вкось...
Хочешь, я заставлю флейту
для тебя свистеть, как в роще?
Кажется, чего бы проще –
душу вымолчать насквозь?!
312.
Сухие листья жгут.
Идем с тобой садами.
Безвинной казни ждут
свидетели свиданий.
Доверчивость тех дней
карается законом.
Лишили их теней,
изъяли птичий гомон.
Октябрь лениво-мглист,
и небо опустело.
Деревья отреклись
и топчутся без дела.
И сад средь бела дня
сквозь дым неузнаваем...
Нет дыма без огня,
уж мы-то это знаем!
313. Стансы
... А кроме этой родины, дружок,
что ты еще имеешь за душою?..
Е.Кумпан
Не плачь ты, о слышишь, не плачь ты!
Не качаются мачты,
не кончаются сроки, –
проспекты – как вечные строки:
чтобы ими шататься,
чтобы ими шептаться.
Размолвки, невстречи, разлуки...
Разведите нам руки,
опустите нам веки, –
все было, все есть, все навеки:
и твои перекрестки,
и мои папироски.
И наша ль печаль безголоса? –
Грохот вместо вопроса,
ветер вместо ответа,
но кто-то аукнется где-то
не стихами моими,
так стихами твоими.
О наших стихов перекличка!
Так одна электричка
окликает другую...
А я тебе руки целую,
будто можно проститься –
и такое простится?!
317.
Печальный голос твой, он где?
Кругами по какой воде
расходится? Какое эхо
его качает вдалеке?
И для кого горчинка смеха
оттаяла на языке?
318. В чужом городе
Памяти Эдит Пиаф
И бульвар, и канал,
и фонарь надо мной...
Я впервые попал
в этот город ночной.
Почему же он мне
так щемяще знаком –
тенью счастья в окне
и размытым гудком?
И бездомностью слов,
и бездонностью глаз...
Город гулких углов
и лоснящихся трасс.
Чьей-то первой тоски,
чьей-то поздней любви...
Только знай что такси
задыхаясь лови.
Только знай что в туман
вдоль асфальта шагай,
только знай что в карман
кулаки опускай...
Ни гроша за душой,
только голос в окне,
и от славы чужой
холодок по спине.
319.
Я все чего-то жду:
письма
или звонка – обмолвку чью-то.
И так легко сойти с ума
от ожиданья чуда.
И так легко найти в душе
веселую свободу...
А сердце –
через пень-колоду,
и рушится на вираже!
320. Встреча во время разлуки
Опять январь какой-нибудь. Морозно.
Крючок с подпития вгрызается в кадык.
Я гость.
И время за полночь.
И поздно
признаньями вывихивать язык.
Но говорю... Нет сладостней науки:
по памяти, врастяжку, чуть дыша,
дома и мостики разменивать на звуки,
забыв, что место действия – душа.
Тот переулок – ах, куда лежит он!
Кислинка зимняя, виясь, влетает в рот.
И двести лет щемящ и неожидан
канала бессловесный поворот.
Какой грамматикой, каким произношеньем
я не унижу город мой в снегу?!
И дереву – с его ночным движеньем –
как про себя, приезжий, не солгу?
Я задыхаюсь... Усмехаюсь... Надо
сказать бы “сад”, а говорится – “суд”.
Послушай, не из этого ли сада
когда-нибудь мое дыханье унесут? –
Прямая речь! Она еще слетает
с январских губ,
обмолвкой голубой
клубится в воздухе и на ресницах тает.
И нам с тобой – всегда как нам с тобой.
Двое, 1967
326.
Край отчий. Век трудный. Час легкий.
Я счастлив. Ты рядом. Нас двое.
Дай губы, дай мокрые щеки.
Будь вечно – женою, вдовою.
Старухой – когда-нибудь – вспомни:
так было, как не было позже. –
Друг милый. Луг нежный. Лес темный.
Звон дальний. Свет чудный. Мир Божий.
ОСТАНОВИСЬ В ПОТОКЕ
(1962-1968)
327.
В мире пахнет паленым,
в мире жгут Человека.
Не возиться ж милльонам
с единицами века!
До того ли, голубчик,
в наше подлое время?
Даже лучше без лучших:
все равны перед всеми!
Ну, а правы ли, нет ли –
это старая песня.
Крутит мертвые петли
самолет в поднебесье.
Сквернословит планета,
отражаясь в бутылке.
Холодок пистолета
у нее на затылке.
328.
Оклеветан птенец вороной.
Нету выдоха вдоху.
Как засушливый шелест песка за спиной –
ощущаю эпоху.
Как червивое бденье травы,
как ночного пространства чреватость.
Тяжелей воровства для ползучей молвы
эта наша крылатость.
Я не помню блистательней лба,
безупречней полета.
Ненасытна слепая пальба
из болота.
Плавно падает перышко; влепят и мне
оловянную порцию славы.
Все, кто спятить сумел в огнестрельной стране,
были правы.
Какого на прицеле кривом!
А эпоха по-русски
вытрет губы смазным рукавом
и приступит к закуске.
329. 30 мая 1960 года
В тот день болела вся Москва.
Отцы и дети – все на матче.
На синем небе ни мазка,
и флаги реяли на мачте.
И мимо вратаря влетал
мяч прямо в сетку,
и больные –
за неимением литавр –
в ладони били жестяные.
Вздыхал в сто тысяч человек
весь стадион, рождая ветер...
А в это время –
Человек,
один-единственный на свете,
в подушках затихал.
Один,
последний, может быть, здоровый,
он воздуха не находил.
И камфорой, как катастрофой,
несло из комнаты.
Жена
любимую не допускала
к нему.
Сгущалась тишина
от койки до Мадагаскара...
И слез никто не утирал –
кого теперь врачи обманут...
А Человек – не умирал,
он просто вымирал –
как мамонт,
вмерзал в историю Земли.
Ревела за окном эпоха:
два-ноль, торпедовцы вели,
и было, в общем-то, неплохо.
333. С английского
Мне однажды приснилось: я стал молодцом –
хитрецом,
гордецом,
наглецом,
очень важным лицом,
с очень важным лицом,
все трепещут – и дело с концом.
Вслед за этим приснилось: я стал циркачом –
силачом,
ловкачом,
трепачом,
не грущу ни о чем
и смеюсь ни о чем,
я и думать забыл, что почем.
А под утро приснилось: я стал муженьком –
добряком,
простаком,
тюфяком,
я грешил табаком
и дружил с кабаком,
а теперь лишь вздыхаю тайком.
Я проснулся, глаза кулаками протер,
и своею судьбою доволен с тех пор!
335.
Соседи утром выехали. Я
не брезгую ничейностью жилья.
Стул, раскладушка, пепельница, – вот
достаточный для счастья обиход.
Кому уютец выхоленный, мне –
полузасохший кактус на окне.
Да синева трехстворчатая, да
портьерой незадутая звезда.
Да из-под ручки шариковой – вкось –
чернильное бессмертье на авось.
336-338. Три послания на Неву
1. Другу
Мы обменялись городами.
Не обманулись: плен на плен.
Мы наши судьбы скоротали.
Что делать? –
Только встать с колен.
Такая малость – встать над бездной,
найти себя и город свой!
Сияет облако над бедной,
безумной нашей головой.
Опомниться... Еще не поздно,
еще не подло...
Знаешь сам,
пока врагами не опознан,
безликим кажешься друзьям.
И нас убьют еще... Будь весел!
Не так, так эдак... Просто – будь!
Есть одиночество и ветер,
от рифмы к рифме крестный путь.
Кому еще нужны мы, кроме
любимых женщин по ночам?
А запах нашей трудной крови
щекочет ноздри палачам.
2. Высокой стае
Не все ли вам равно – суббота
ли, вторник, сколько вас и где? –
Четырехстенная свобода,
и при свече – как при звезде.
Уют сегодняшний изъеден
блокадной памятью...
Явись
из пены благостынь и сплетен
готическая тяга ввысь!
Все выше лесенка, все уже,
и вот – как по небу уже!
И тем крылатей ваши души,
чем злее камень на душе.
Пускай безденежье и насморк,
и с виду все как у людей, –
о стая лебедей!
Прекрасно
отяжелевших лебедей...
Я тоже вскидываю руки,
но не лечу,
а волочу
по темным улицам разлуки
крыло, пришитое к плечу.
3. Городу
Все будет позже...
Я прохожий.
И я один в твоем саду.
Иду и – Господи ты Боже! –
пустой скамейки не найду.
С какою щедростью последней
колени женские слепят!
И разрастанье желтой сплетни
безличнее, чем листопад.
Лоснится лень, дурит беспечность,
сиротство комкает платок. –
Всех обесцвечивая,
вечность
струит безумный холодок.
Простая, в сущности, простуда,
сырая формочка в руке.
Ни горя впереди, ни чуда
в толпе, ни выхода к реке!
Хожу садовыми кругами
с полуулыбочкой кривой, –
и листьев больше под ногами,
чем было их над головой.
339. Память
Быть несчастным не умею,
слыть счастливым не хочу.
Буду слушать ахинею,
дам похлопать по плечу.
Только память, – перед нею
теплю тихую свечу.
Дни проходят без мгновений,
длятся месяцы без дней.
Чем живу неоткровенней,
тем слова мои бедней.
Только память, – на колени
встать не смею перед ней.
Не заплачется в кино мне,
не взгрустнется у Невы.
Все бездумней и бездомней
под знаменами молвы.
Только память... – но, увы,
ничего-то я не помню...
340. Молитва
Пока еще не выветрен судьбой
и под ногами глиной не размазан, –
я говорю с тобой, или с Тобой...
Там, в высоке твоем,
он слышен ли, мой голос?
За тридевять событий от меня
шумит твоя счастливая вершина,
все, кроме поднебесья, отстраня...
Там, в высоке твоем,
какой сегодня ветер?
Посередине лет земных стою,
со всех сторон обиды и недуги
слетаются на голову мою...
Там, в высоке твоем,
о чем поется птицам?
Я не прошу ни хлеба, ни воды, –
ты, или Ты, дай место у подножья
твоей недостижимой правоты...
Там, в высоке твоем,
что обо мне ты знаешь?
341.
Я тороплюсь – дай угол для любви.
Кощунствую – дай для бумаги уголь.
И – чтоб не слышно было, как на убыль
идет наш век – часы останови.
Нет, не потом, когда умру в четверг.
Сегодня, посреди застенных сует,
пока над головой еще твистуют
и свет от сотрясенья не померк.
О как стандартно людям повезло!
Юродствует прожорливое зло,
играет новоселье чье-то горе.
Перескажи хоть тысячу историй –
у нас одна история на всех!..
Успею ли? –
Восьмиэтажный смех.
342.
Вам – лестница, нам – пять минут тепла.
Вам вверх взмывается, нам топчется на месте.
Вам хлопается дверью честь по чести,
нам хлюпается носом мал-мала.
Вы хмуритесь, в прихожую вошед,
мы балагурим в вихре снежной пыли.
Для вас постель – о если б вы любили!
Для нас метель – любовнейший сюжет!
Нет, не завидуем – жалеем... Знали б вы,
насколько дышится острей и откровенней!
Мир состоит из двух местоимений –
по ту и эту сторону любви.
344. Автопортрет
Неужели вон тот – это я?
Ходасевич
А я, наверное, смешон, –
ты не находишь? –
Я как будто
среди одетых – нагишом
и босяком – среди обутых,
и холодно, и стыдно мне,
а я ничуть не озабочен,
чтоб отвернуть лицо к стене
от неминуемых пощечин.
Пусть на меня еще никто
не показал, но то-то смеху,
что я не просто без пальто,
не застегнуть забыл прореху,
не спьяну попугать горбом
решил, – а даже вроде назло
не утыкаюсь в стену лбом,
как бы подлить желая масла.
С высокомерием шута,
в богоизбранничестве неком –
держу усмешку возле рта
вполоборота перед веком
и, неудачник средних лет,
подозреваю, что, быть может,
одет ли я, или раздет,
так никого и не встревожит.
345. Сидя в стороне
Когда галдят застолицы кругом,
а я молчу (на языке другом), –
какие вдруг проскакивают искры
любой квартиры наискось, что мне
полумгновенным этот век небыстрый
мерещится?! –
Сидящий в стороне,
я словно бы смотрю сюда – оттуда:
беззвучны рты и не бренчит посуда,
нет повода врага считать врагом
и друга числить другом – как на фото,
где ни души знакомых...
А кругом –
в ушах першит, настолько криворото
застольное витийство:
...охренеть...
...без мыла влез... работа не медведь...
...что я имею с этого... на пушку
берешь... кондрашка стукнула... не будь
ты тряпкой... псу под хвост... на всю катушку...
...в рот пальца не клади...
(Не продохнуть!)
...в копейку встанет... в гроб вгоню... как в воду
глядел... –
Самодовольней год от году
на малогабаритном языке
себя имеют высказать! –
Сквозь время,
поверх добра и зла – накоротке –
проскакивает искра: озаренье
слепит, подобно Божьему бичу...
... Смотрю сюда оттуда –
и молчу.
347.
Я иду сутулый, но прямой,
а кругом косые взгляды ваши:
неприлично – брюки с бахромой,
срамота – ботинки просят каши.
Каша... А за столиками жрут.
Лимонад... А перед каждым водка.
Доблестный у вас, конечно, труд,
у меня же – так себе, работка!
Ах, и мне б костюмчик на заказ,
крашеную девку напоказ,
тонкую усмешку, толстый бас,
но едва взгляну на ваши лица –
чтобы души выросли у вас,
кто-то ж должен, думаю, молиться!
350.
За руки белые меня
берут, как хулигана.
Две гимнастерки, два ремня,
два вежливых нагана.
На все четыре сапога
подкована свобода.
Я сразу вырос во врага
перед лицом народа.
Меня сгибают пополам,
пихают в черный ворон.
А вся Россия по углам
за нищим разговором.
Толкует про житье-бытье,
пьет мертвую со скуки,
пока мне именем ее
выкручивают руки.
355.
Пока, мальчишка и мудак,
ты ищешь красное словцо,
шляхетски рифмами бренчишь, –
твоя Россия, скажем так,
вдруг узнает тебя в лицо,
и ты молчишь.
Когда ж, изверившись вконец
всем завереньям вопреки,
со зла, с отчаянья, спьяна
ты вынешь вдруг из-за щеки
не леденец, а бубенец, –
молчит она.
Ты пущен по миру босым:
ступай, свидетельствуя сим!
357. К другу стихотворцу
Жизнь для волненья дана...
Баратынский
Зачем, высоко обязуясь
дышать размером и добром,
уравновешенный безумец,
ты слепо брызгаешь пером?
Твоя лихва в пылу полемик
лишь убеждает, что и ты
такой же – если и не пленник,
то соучастник суеты.
Мы все, как все: на службу топай,
читай газету, шей пальто, –
живем, и нет на нас потопа,
все граждане и все – никто.
Живем в толпе, покуда живы,
владельцы, съемщики, жильцы,
клиенты, члены, пассажиры,
мужья, любовники, отцы.
И нет, не в стихотворных перлах,
а в лязге этом и лузге
у нас (лишь славы, что у первых!)
душа висит на волоске. –
Ни позабыть о дальнем друге,
ни самого себя простить...
Нам только кажется, что руки
легко вдоль тела опустить!
Копейки наши – ахи-охи!
Но жизнь становится судьбой:
мы платим по счетам эпохи
не словесами, а собой.
Рабами вбитых в нас понятий,
стянув последние трусы,
предстанем – как в военкомате –
и зябко станем на весы.
358. Памяти Фриды
Не горечь, не горесть, не горе...
Душе не сказаться никак!
Обрывки афиш на заборе,
и дождь, и при входе – сквозняк.
Каким же он кажется нищим,
тобой покидаемый мир –
с бредущими мокрым кладбищем
владельцами теплых квартир!
Стекают осенние лица.
И, тычась в изгиб рукава,
душа, угловая жилица,
роптать получает права.
Сестру снаряжая в дорогу,
своих не касаясь обид,
душа обращается к Богу,
гражданских поверх панихид.
Что наших речей безысходней? –
Поплачем над бездной земной,
и вечное наше сегодня
набрякнет твоей тишиной.
359.
Я привычен к доле угловой:
в поезде, в гостинице, в гостях –
лишь бы одеялом с головой,
и грядет мой спас-на пропастях.
Радио гремит на пол-Руси,
льет в уборной, дует из окна, –
спрячь меня, укрой меня, спаси,
родина-за-пять-минут-до-сна!
361.
Трава окатывает ноги,
чело окутывает мгла.
Не дай мне Бог сейчас дороги,
чтобы куда-нибудь вела.
Не дай мне Бог сейчас подруги,
что напросилась бы помочь.
Во всей беззвезднейшей округе
лишь двое равных – я и ночь.
Земля потоплена в тумане,
ни зги: он сгинул, белый свет.
И нет во мне воспоминаний,
а может быть – и веры нет!
362.
Когда ни женщины, ни друга,
ни зверя теплого у ног,
и на сто верст одна лишь вьюга, –
я не тоскую, видит Бог.
А посреди толпы великой
такая смертная тоска!
... Смотри, мой милый, не накликай
себе разбитого виска...
364. Трудные стихи
Мне пела птица на заре –
и ты меня любила;
сияла церковь на горе –
и все вполгоря было;
чернела под вечер вода –
и наступала череда
молчать под шорох сада...
... А что, мой друг, возьму туда,
где ничего не надо?
........................................
Живые мертвому цветы.
Средь сладковатой духоты
друзья на цыпочках, и ты –
наверно, здесь, наверно, рядом;
прощаешь, каменно скорбя,
иль виноватишь явным взглядом...
Я занят собственным распадом,
мне некогда жалеть тебя.
...............................................
Лежать на том же на столе,
сидел когда-то за которым;
безгрешно тем же коридором,
куда входил навеселе;
потом – не чувствуя земли
и не захлебываясь небом –
туда, где я ни разу не был...
Спасибо вам, что привезли!
..............................................
Могильщик вылезет, и вы
над рваной пропастью забвенья,
не поднимая головы,
замешкаетесь на мгновенье,
и, неприкаянный вдали,
протиснется к могиле Каин
и бросит первый ком земли –
злорадно, как последний камень.
......................................................
Пусть родина меня простит,
как я простил ей страх и стыд,
простил неправды вкус во рту,
и нищий хлеб любить не ту,
и соль, слепую соль сует,
и веру в то, что веры нет, –
всю злую меру смертных бед!
.................................................
Иду на дно – и нету дна,
и надо мною, надо мною –
из всех растений – бузина,
из всех смятений – тишина,
и однозначно все земное:
и я – один, и ты – одна.
.........................................
Земля да будет мне легка!
Поплачете и разойдетесь –
уже не люди, облака...
... Когда-то вы теперь вернетесь?..
Вернитесь! Хоть через века...
365. Адам
Когда синкопирует сердце, когда
все жареной рыбой до звезд провоняло, –
о как ты нужна мне! –
Хоть ломтиком льда,
завешенной лампой ли, грелкой линялой.
Не бойся, сегодня еще не умру.
Еще пригодится и шапка в прихожей –
спуститься по лестнице, встать на ветру,
поверить в незыблемый замысел Божий.
Опять, понимаю, не хватит души
вдохнуть это звездное благословенье...
Обступят, оцепят меня этажи,
качнутся в зрачках, распадаясь на звенья. –
Играй же свою полуправду, играй,
и денно, и нощно терзаемый ими!
Забудь в первом акте потерянный рай,
похерь во втором – тебе данное имя.
В копилку стола опускай по грошу,
по камню, по реплике...
То-то потеха,
что насмерть с бездонным колодцем дружу,
и тешит меня его тесное эхо!
Подохнуть от смеха, что есть у меня
и горькие слезы, и гордые губы!..
Ты, родина, завтра не дашь мне огня,
не дашь мне воды, – только медные трубы.
Ославишь – и свалишь меня в уголок
неизданным хламом, и локоть мой драный
счастливой деталью войдет в эпилог
со дня сотворенья задуманной драмы.
И – Гамлет не Гамлет – тогда и вплыву
в стерильнейший ужас второй хирургии.
Вдоль койки, рыдая почти наяву,
двоятся-троятся мои дорогие. –
Ты где тут, жена моя?!
Вместе бы в сад
и яблоки рвать бы, как все человеки,
но некто – беспамятен и волосат –
впотьмах наши руки разводит, как реки.
И ты мне ребро возвращаешь...
и мгла
над завтрашним миром...
и душу живую
(она только чуточку занемогла),
свергаю – о Господи! – в бездну стола...
и плачу... и бедствую... и торжествую...
366-368. Три сонета
1.
По всей эпохе высятся кресты,
и на небо взглянуть – уже заслуга!
Живешь – и столбенеешь от испуга
перед лицом разнузданной тщеты.
И горестней душевной глухоты
на свете нет, наверное, недуга:
жгут истину, в тюрьму сажают друга,
а ты живешь, поплевываешь ты.
Но вот – еще: живешь не так, как все!
Все крутятся, как белки в колесе,
а он поверх голов глядит куда-то.
Ату его, родимого, ату:
пнуть и распнуть – пусть знает высоту!..
... О Господи, спаси слепое стадо...
2.
Чем старше, тем ревнивее эпоха.
Как ветреная женщина, она
была в себя настолько влюблена,
что не ждала от зеркала подвоха.
Лгут зеркала, и все же дело плохо –
морщины, злые губы, седина.
Она теперь – как верная жена –
тебе не позволяет ни полвздоха.
И хоть в кабак, проклятьем заклеймен!
От ласк ее, румян ее, знамен
ветшающих, как ленты на могилах. –
Ребром ладони режешь свой кадык:
вот так уже! И стыдно, что любил их,
и вчетверо стыднее, что привык.
3.
Свободный синтаксис воспоминаний,
наплывы через точку с запятой... –
Вам кажется, их нету безобманней,
и невдомек, что с кукишем в кармане
к эпохе становились на постой.
Гордитесь героической тщетой
своих испаний и своих германий,
и – скрученные даже в рог бараний –
опьянены восторженностью ранней,
упрямы восклицательностью той,
быть совестно свидетелем которых...
И все-таки – подольше бы у вас
в пороховницах не кончался порох:
куда страшнее правда без прикрас!
369. Наука побеждать
Молчанье – трудная наука.
Мы побеждаем, зубы сжав.
Победа наша однорука
и ореол над нею ржав.
Он из консервной сделан банки.
Опять злодей какой-нибудь –
и снова слева-справа танки,
и вдруг медаль осколком в грудь.
Мы крестоносцы, не крестьяне, –
свой крест выносим на рубеж.
Земля нарезана ломтями,
бери любой из них и ешь!
Ан нет, долбим гранит молчанья,
дробим в зубах окопный жмых.
Гнездо свивает одичанье
в воронках раковин ушных.
Стоят победы в гордых позах,
их до небес превознесли.
Лежит земля в стальных занозах,
и нет победы для земли.
370. Памяти самих себя
Живем себе, кропаем и корпим.
Треск духовых оркестров нестерпим.
Ни полстроки в угоду не изменим;
мы будем воду пить за неименьем
вина, есть голый хлеб, вдыхать густой,
благословенный смрад воспоминаний. –
Всегда кому-то столбик со звездой,
а десятеро – камня безымянней.
Зарытые, да есть ли нам число!
И нас в порыве доблести несло
топтать поля истории – мы тоже,
наверное, могли!.. Но подытожа
нули успехов и нули потерь, –
мы, видит Бог, себя не омрачали
нехваткой славы: присно и теперь
у нас совсем другой вариант печали.
Свидетельствовать – тоже ремесло!
Чтоб бывшее – быльем не поросло,
не обросло легендой или сплетней,
скрипи наш горб! На улице соседней –
то в память, то по случаю, то в честь –
при всем народе выцветают флаги.
И все-таки по пальцам перечесть
нас, лишних в триумфальной колымаге!
Зато хоть удается честно спать.
А примерещит ежели опять
казенный дом и позднюю дорогу, –
из-под простынь выпрастываем ногу
и тешим лицемерным холодком...
Ах! Жить бы всем на берегу высоком,
не лязгать ни затвором, ни замком
и неба не выламывать из окон!
371. Мандельштам
Сверкающая русская латынь,
пророческой растравленная спесью.
Круглеет звук и, заросли раздвинь,
крупнеет соль, прикидываясь песнью.
В убыток ли таврический загар
обменян на уральские сугробы,
троянский пир и петербургский пар –
на проголодь воронежской Европы?
Давай мечи свой бисер, соловей!
Выщелкивай, щегол, свои орешки!
И, глотку запрокидывая, смей
не обращать вниманья на издержки.
372. Смерть Ходасевича
Что верно, то верно, нельзя же вот так:
накрыть простынею – и в морг.
Еще не забыл его спину пиджак
и душу Господь не исторг.
И пусть эта койка в углу у окна
под новое тело нужна, –
оставьте: уснул в кои-веки Орфей,
не зная о смерти своей.
Легко ему, боль отпустила, обмяк,
и снится, что не удалось
Россию загнать на парижский чердак,
и попусту вся его злость.
И снится, что оды отчетливый стон
предсмертно привил-таки он
к себе, кому тоже не спится лет шесть,
а надо ли это, Бог весть.
Зато как спокойно теперь он лежит,
на Божьем лежит сквозняке!
И только – тяжелая лира висит
в безвольно упавшей руке.
373. Когда погребают эпоху
О как вам дышится средь комаровских сосен?
Кладбищенский предел отраден и несносен.
Оградки тесные, как дачные заборы,
и пусть вполголоса, но те же разговоры.
Единственность свою опасно знать заране.
Над бегом времени, как Федра в балагане,
вы, так и видится, стоите без оглядки,
и стынут на ветру классические складки.
Уже успели всех угробить и заямить.
Ваш черно-белый стих шифрованней, чем память.
Дивились недруги надменной вашей силе.
Четыре мальчика чугунный шлейф носили.
Великая вдова, наследница по праву
зарытых без вести, свою зарывших славу,
когда самой себе вы памятником стали,
не пусто ль было вам одной на пьедестале?
Где Осип? Где Борис? Где странница Марина?
Беспамятство трудней открытого помина.
Вас восхваляют те, кто их хулит доселе.
Перед разлукою вы даже не присели.
И понимаются глухие ваши речи.
И занимаются сухие наши свечи.
Мы отпеваем вас, мы яму вам копаем,
мы на казенный счет эпоху погребаем.
И вырастает крест на молодом погосте.
И топчутся вокруг непрошенные гости.
Но – согласились бы вы разве под ракитой,
в глуши какой-нибудь, быть без вести зарытой?!
374.
Памяти О.Савича
Отрешеннее день ото дня
навещаю друзей на погостах.
Сколько весит кладбищенский воздух,
весь, при жизни вошедший в меня?
Тишина уплотнилась во мне,
стала кровь моя гуще и глуше, –
будто камнем задвинули душу
и отлили язык в чугуне.
375. Баллада о силе духа
С цветочками зайдите, осчастливьте!
Приличное лицо состройте в лифте, –
а ну как не отплакалась вдова.
Но, выкормыши века показного,
чего же вы – ввалились и ни слова:
такая малость вроде бы – слова!
Гуськом через прихожую как дети.
А в комнате, в хозяйском кабинете,
где вы бывали раз не меньше ста,
под тою же картинкой, на диване,
в своей всегдашней позе перед вами
сидит – примяв подушки – пустота.
Не отшатнетесь, нет, не хватит духа.
Вас выручит железная старуха –
поправит книгу, вытрет край стола,
турнет легонько киску, чтоб не лезла,
и – опустившись в горестное кресло:
– Ну как живете, – спросит, – как дела? –
376.
Претерпеваем радости вседневья,
нас тешит суета, знобит успех.
И к небу вознесенные деревья –
как тихие молитвы обо всех.
О нас, дружок, с тобой – наверно, ясень,
о ком-то – липа и о ком-то – клен.
И Богу кажется, что мир прекрасен
и племенем высоким населен.
378.
... Я плохо слышать стал, и мне
теперь дороже музыка, чем слово.
Я устаю от множества людского,
а с бойким собеседником вдвойне.
Он жаждет мне втемяшить что к чему,
возносит что-то и хулит кого-то,
и копится за скулами зевота,
и хочется остаться одному.
Но музыку я слышу, и она
течения души не нарушает –
не искушает и не утешает,
побыть самим собою разрешает...
Есть в музыке большая тишина...
380. Третья твердь
Не верю, нет, не органист
меня во прах поверг.
Летели камни сверху вниз,
а души – снизу вверх.
Был каждый вновь из ничего
прекрасно сотворен.
О ты, слепое торжество
знамен, племен, времен!
Тщета интриг, тщета вериг,
тщета высоких слов...
Есть человека первый крик,
любви внезапный зов.
Есть добрый труд из года в год
и отдых в день седьмой.
И время течь не устает,
как небо над землей.
Какая разница – свеча
или милльоны свеч?
Какая разница – парча
или лохмотья с плеч?
Геройствуй, схимничай, греши, –
за жизнью только смерть.
Лишь в обнажениях души
сияет третья твердь.
Там, над обломками эпох,
с улыбкой на губах,
ведут беседу Бах и Бог,
седые – Бог и Бах.
381. Глухота
“В лесах я счастлив...” –
пишет Бетховен.
Что за корысть тебе, глухарь,
мычать и мыкаться в ненастных
ночах и – долго до греха ль! –
сходить с ума эпохе на смех?
У всех в ушах еще стоит
твое первопристрастье к трубам.
Почил на лаврах бы старик, –
так нет: младенцем большегубым
токуешь, сам себе Гомер!
Отринул – юношам на зависть –
все, что умел и чем гремел, –
непримиримейшая запись
себя живого взаперти!
По двести раз одну и ту же
на ощупь истину тверди,
вывертывай седую душу
на паперти среди калек, –
не подадут, как ни сиротствуй!
Оглох не ты, оглох твой век:
не пробивается вопрос твой
сквозь толщу тысячи глушизн.
Тюремной азбукою в стены
ломись, выстукивая жизнь,
и путай, и сбивайся с темы,
все уши дамам изглодав...
... сквозь толщу жира, пересыпа,
довольства, рыночных забав...
Скажи за то еще спасибо,
что ты свободен хоть тайком
сбежать в леса – остаться просто
больным и сирым стариком
и быть счастливым без притворства!
383. Болеро
Т.Х.
Вначале была барабанная дрожь.
Душа еле брезжила.
Мир содроганий,
когда еще толком не разберешь,
насколько он жуток, насколько хорош
своими сбывающимися кругами.
Случайный комочек, я жил не спеша,
дышал и наигрывал.
Взял чью-то руку
(попробуй от века не взять ни шиша!)
И слышу – во мне назревает душа
и гонит меня вслед за всеми по кругу.
Упруго и сладостно ширится круг,
томит нарастанием.
Хлопни в ладоши,
притопни, присвистни, но в том-то и трюк:
в лесу унизительно поднятых рук
я думаю так же и делаю то же.
Безликость шумна, многолюдство пестро,
похожесть навязчива.
Мне да воздастся:
все гибче сплетаются зло и добро,
все шибче раскачивает болеро
свою карусель на краю святотатства.
Все круче, все злей, все бесстыдней круги,
нет времени кашлянуть.
Вкрадчивый демон,
уже еле сдерживая кулаки,
гремит посредине в четыре руки,
и все ему кажется, круг недоделан.
Головокружительная толчея!
Собой оставаться ли?
Общим горючим
до свиста источены жилы, и я –
как все, возвращаюсь на круги своя:
на полоборота наш век недокручен.
Давайте сыграем в хорошую жизнь,
какого рожна еще!
Громче божись,
кружись и за душу свою не держись,
ногами к разрыву ложись вне себя от восторга...
Пусть руки расторгло,
пусть душу исторгло, –
скрежещет жестокий восторг!..
385. Ковчег
Но видит Бог, есть музыка над нами...
Мандельштам
Опять, вы понимаете, опять
интриги горбоносого гобоя;
и струнное старанье перенять
его манеры; и от междометий
чуть не побег под своды контрапункта;
и восходящий смысл за пядью пядь.
Пускай – да ради бога, что с того! –
куражится, включая свой транзистор
на полный звук, двуногое родство;
развязность, заджинсованная туго,
убеждена, что никого над нею;
а правда – вдруг над нею никого?!
А нас с тобой, уже который век,
захлебом тишины тысячелицей
несет, и – дождь на улице ли, снег –
о микроклимат нашего восторга!
Нет, не концерт для возраста с оркестром, –
космический качает нас ковчег.
Стократ блажен, кому припасено
пожизненное место у колонны!
Бетховен ли, Равель ли – все равно
поверх любой эпохи плыть в ковчеге
и знать, что никуда как в мирозданье
над хорами распахнуто окно.
СОСНЫ
(1967 - 1969)
И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены…
Пастернак
398. Раздумье
Когда тебя обидит век
иль женщина лишит свободы,
встань тихо посреди природы,
любить уставший человек.
Сама в себе живет река,
вздыхает лес неизъяснимо,
и облака – все мимо, мимо...
река... и лес... и облака...
Твоя невзгода в этот миг
тебе покажется ничтожней
листка, мелькнувшего над пожней,
а ты – как дерево велик.
406.
Я затихаю на природе.
Как бедный родственник, вхожу.
Среди больших ее угодий
угла себе не нахожу.
Постыдно тянет подольститься –
помочь ручью, спасти жука –
и на небо перекреститься,
как атеист, – исподтишка.
Я умиляюсь глупой птахе,
травинке малой на лугу...
Но блудным сыном, ниц во прахе,
вернуться в лоно не могу.
Сижу, философ безбородый,
на краешке чужого пня.
Природа занята природой,
ей нету дела до меня.
408.
Помню ли тебя, не помню,
эка малость!
Под вечер земля бездомней,
и осталось –
в рощи забредать и в чащи
углубляться,
вспугивать чужое счастье,
не влюбляться.
Под вечер земля печальней
и любимей.
Песней потянуло дальней
о рябине.
В небе надо мной не лето
и не осень –
тихое страданье света
между сосен.
412.
Моя зима – мой снег – мои следы.
Стяжатель, собственник, скрипучий скряга,
весь мир я обобрал бы – от звезды
над соснами до той, на дне оврага,
полуослепшей, чуть живой воды.
Но каждый раз в припадке мотовства,
застигнутый восторгом святотатства –
дым коромыслом, кругом голова! –
размениваю я свои богатства,
как и сейчас, на общие слова.
Полным-полна амбарная тетрадь...
Безумец, чем бы мог я обладать!
414.
Кс.Семеновой
Тень голых веток на снегу –
мгновенье, пойманное оком!
От пышночувствия сбегу
в самозабвении высоком.
Бог с вами, слава и любовь, –
иной восторг, иные лета!
Как первый раз увижу вновь
вздох тонколиственного света,
осколок радуги в лугу,
бессолнечной волны мерцанье,
тень голых веток на снегу, –
так умереть и не смогу,
пронзенный страстью созерцанья!
415. Сосны
Б.М.Гаспарову
Когда меж небом и землей
гудят натянутые сосны,
и – как зеленоватой мглой,
той музыкой многоголосной
душа затоплена, –
не мне
постичь исполненное свыше,
я только слушаю – и с л ы ш у,
и вещий холод по спине!
416.
И вот живу на верхнем этаже,
душа поближе к Богу захотела!
Как ни желанна женщина, – уже
боюсь бессмысленного тела.
Лишь небо соблюдает высоту
последнего из наших расставаний.
И просветленней мир, а на свету
и безнадежней все, и безобманней. –
Пустынно счастлив я – не одинок
(так вспоминают осенью о лете):
прощаясь у твоих затихших ног
я слезы лью, а это – видит Бог! –
не высший ли любовный акт на свете?
419.
Постой, не вчера ль это было?
Не вспомнить без календаря.
Я вышел, пространство знобило,
свою безоглядность даря.
Наверно, весна или осень,
по смутной судить красоте.
И кажется, не было сосен,
а если и были – не те.
И верилось, вовсе не трудно
вот так, хоть полсвета пешком.
И ветреность белого утра
служила зубным порошком.
Послушай, когда это стало?
Он все продолжается, путь. –
И ветер того же состава,
от счастья не передохнуть.
И осени мятная долька,
и тающий ломтик весны.
И только, быть может, и только –
желаннее запах сосны.
Еще я не смею привыкнуть
к покою на том берегу.
И только ручей перепрыгнуть
с тобой на руках не могу.
420.
Ты хлопочешь у огня,
ты еду готовишь дочке.
Шелестят ее годочки
между пальцев у меня.
Два, четыре – все равно,
восемь, десять – или сколько?
Апельсиновая долька,
слезы первые в кино.
Погулять ее возьму –
и неловко ей, и скучно.
Будет девочка послушна
безвеселью твоему!
День за днем, житье-бытье –
ей пятнадцать, ей семнадцать...
Что ей может вспоминаться?..
Кстати, как зовут ее?..
424.
Недописанный лист на столе.
Неприрученный луч на стволе. –
Ничего-то не надо мне, Боже!
Отчего же осина во мгле
так шумит надо мной, отчего же
обдает меня взглядом прохожий,
как чужого на этой земле?
ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ОВРАГА
(1969 – 1981)
По склону дня (Пачковка, 1969-1972)
425.
Высоким слогом в наши дни!?
Но не могу – не высшим слогом:
по травенеющим дорогам
иду, устав от болтовни.
Опушкам, просекам, лугам –
сто гимнов моего молчанья.
И нет торжественней звучанья,
чем вдох и выдох в лад шагам.
Сто полумыслей ни о чем,
одический восторг немотства
и – праздничное превосходство
над повседневным рифмачом!
428. Полудетское
Что нахохлилась, дочка? Пойдем,
погуляем, оставь ты скакалку.
Видишь, клены и липы вповалку:
ветер, холодно, тянет дождем.
Вышли в поле – и вот тебе на:
лоскуточек летучей лазури.
И везет же одной капризуле –
будто выглянул кто из окна!
И везет же особе одной –
будто выскочил кто на крылечко!
Просияла чешуйчато речка,
с неба дождичек брызнул грибной.
Что ж: какой-нибудь кашке сродни,
изумись двухминутному чуду
и на милость высокую чью-то
хоть помпоном бездумно качни!
429. Маленькие пейзажи
*
Сухая кисть и тощий колорит.
Передний план колесами изрыт.
Две ивы на голландском ветродуе.
Какое время года – не прочесть.
И поневоле видишь все как есть,
не восторгаясь и не негодуя.
И дом как дом. И женщина вдали. –
Твоя земля. Другой и нет земли.
*
Грех жаловаться! Воля и покой.
Лазурная внезапность над рекой –
и кажется – о Господи, на кой
все наши споры, чаянья, тревоги? –
Непышный хлеб, текучая вода,
вдали вечнобиблейские стада
и только для пейзажа – провода,
гудящие натужно вдоль дороги.
*
Тебе не вспоминается, взгляни? –
На луговину льется свет вечерний,
и тени с каждым шагом непомерней,
и то, что за спиной, уже в тени.
Озарены спокойствием холмы,
и мимо отдыхающего стога
настолько никуда лежит дорога,
что двое на дороге – это мы.
431. Хождение за три оврага
Конец на сегодня учебным полетам,
геройским забавам со скоростью звука,
небесный чертежик размыт и разметан,
вечерняя проголодь зренья и слуха.
Опять, глядя на ночь, не путь не дорога,
утешусь хождением за три оврага.
Тропой несказуемого монолога
несет без компаса меня и без флага.
Синеющий город встает из развалин
надмирностью арок, бесшумностью башен,
и замысел зодчего так гениален,
что все рождено как бы вымыслом нашим.
А понизу гонят коров из-за леса,
железом старательно бьют о железо,
детей утешают и варят варенье, –
и это все тоже детали творенья.
Гудит надо мной телеграфная лира,
ласкают меня журавлиные клики, –
покамест я в мире, исполненном мира,
все разновеличия равновелики!..
Тишайшего неба большие свершенья,
и маленьких звуков земных копошенье.
432.
Запалят прошлогодние листья,
и потянет дымком между сосен.
Всколыхнется душа, затоскует,
то ли старость уже, то ли осень.
То ли сизое воспоминанье
дочерна перетлевшей невзгоды;
то ли вечная горечь России –
много воли и мало свободы.
Сушат хлеб, или топится баня,
костерок в чистом поле белесый, –
посреди безутешного мира –
дым отечества, счастье сквозь слезы.
434. Успение
Крестный ход. Успенье лета.
Купола светлым-светлы.
Но взглянул – и меньше света,
но вздохнул – и больше мглы.
Стужей близкого покоя
веет за версту вода.
Невзначай махнул рукою –
как простился навсегда
с этой пожней, с этой пашней,
с колокольным этим днем,
с красотой позавчерашней,
с вороньем –
все бесшабашней
празднующим вороньем.
435. По склону дня
Нет, не размолвка, нет, не расставанье.
Я шаг за шагом в сторону заката
неслышно отхожу на расстоянье
руки, тобой протянутой когда-то.
Из твоего спокойного квартала
я возвращаюсь быть своей дорогой:
с горы тащиться на гору устало,
а чуть поодаль – видеться пологой.
Своей дорогой быть, своей работой –
кремнистым словом с отсветом разлуки,
счастливейшей – не в первый раз, не в сотый! –
боязнью замереть на полузвуке.
Такой вдруг безоглядностью подуло!
Соринка в голубом глазу пространства,
своею восхищенностью сутулой
врасплох смущаю птичье итальянство.
Вторгаюсь в корнесловие дубравы,
полей листаю подлинник, – всецело
поглощено забвеньем легкой славы
возвышенно дичающее тело.
На острове у нас пустует лето,
цветут воспоминания вдоль линий,
а солнце опускается не где-то,
а здесь –
за той горою, в той долине.
Комарово, 1970-е...
440. Лесная прогулка
Посмурнело в лесу,
выцветает березовый ситчик.
Я в берете несу
два наклона попутных лисичек.
Ради славы уже
я не рыщу, как в прежние годы.
Подаянья природы
достаются одной лишь душе.
Просветленный финал
после бури страстей и восторгов.
Я свое отстонал,
мох под соснами палкой исторкав.
Череда уже быть
милосерднее, выше, добрее.
Жить нельзя не старея –
просто надо любить как любить.
Ну какая ж беда, –
тихо радуюсь, идучи к дому.
Мир таким никогда
и присниться не мог молодому!
А с годами в строку
будто сам отливается сразу. –
Я крылатую фразу
из прогулки лесной извлеку.
Вот какие дела,
а слыву неудачником вроде.
Даль спокойно светла,
на последнем стою повороте.
Сколько б ни было дней,
с легким сердцем уйду восвояси. –
Наших всех разногласий
согласованность мира сильней.
441. Осенины
У нас в Комарове деревья
и осенью так же строги.
Слоняюсь на позднем пригреве
походкой вот этой строки.
Вдоль дачных линялых заборов,
вокруг нежилого жилья.
Сперва прохожу мимо Горов,
потом мимо Граниных я.
Вдоль детских пустующих дачек
брожу, на качелях сижу.
Попавшийся под ноги мячик
зачем-то в руках подержу.
Вдоль тихих веранд и участков
с надменной ненужностью мальв.
Ко мне почему-то неласков
барбосик по имени Ральф.
Но, Господи, что за попреки!
Той будки ахматовской страж,
скитаюсь на мертвом припеке,
собой довершая пейзаж!
Вослед журавлиной станице
гляжу, будто это навек...
Душа отвечает сторицей,
и жгучее солнце струится
из-под остывающих век.
442.
Трудно тинятся тени
в перелеске закатном.
Легкий шелест растений
как бы где-то за кадром.
Послоняюсь для виду
между двух сыроежек.
Нога за ногу выйду
на брусничный обмежек.
Сухо шепчут березы,
влажно плещут осины.
Все смотрел бы сквозь слезы
в тот костер негасимый!
443. Прощание с садом
О мой замусоренный сад,
дождливый мой лесок!
Всех обнажение досад,
ветшание досок.
А листья если и висят,
то все наискосок,
висят, мотаясь вкривь и вкось,
а я – ненужный гость.
Особенно когда блеснут, –
они наперечет.
Счастливых некогда минут
в саду переучет.
Брожу, зануда из зануд,
за шиворот течет,
брожу и вижу все насквозь, –
ненужный, в общем, гость.
Прощай, мой сад! Не обессудь,
что обернулось так.
Быть может, жизни нашей суть –
такой же кавардак?
Тебе забыться бы, уснуть, –
а я брожу, чудак:
своим считал себя, небось,
и вот – ненужный гость.
444.
Кончаюсь. Нечего сказать.
И некому. Зачем печалить?
Душа узлом – не развязать,
от повседневья не отчалить.
Еще я честно бормочу.
Еще мешают – я ворчу.
Строгаю рифму побогаче.
Еще обманываю всех.
И – покушаясь на успех –
скрываю призвук неудачи.
Слепит еще сиянье дня.
Могу ль не радоваться свету?
А все уже – не про меня.
И нету слов. И жизни нету.
445. Стихи о дожде
Шум дождя на веранде,
лето, дачный сезон.
Сколько там ни горланьте,
я дождем обнесен.
Я дождем забормочен,
мне совсем не до вас.
Да и весел не очень
я, наверно, сейчас.
Шум дождя на веранде,
каждодневный недуг.
Никаких нет гарантий,
что разведрится вдруг.
Ни малейшей отсрочки.
Так что, брат, не ершись!
Недописаны строчки,
недодумана жизнь.
Шум дождя на веранде
до конца моих дней.
Напоследок сварганьте
кофе мне почерней.
Или нет, погодите,
лучше сам я сварю.
Вы со мной посидите,
я на вас посмотрю.
448. Рисунок на песке
Кто палкой на песке нарисовал меня?
Сутулого, обросшего, в берете.
На первый взгляд все точно на портрете –
и нос, и горб, – смеется ребятня
взахлеб... А между прочим, те же дети,
столкнувшись где-нибудь лицом к лицу со мной,
вдруг притихают и глаза отводят;
и с глазу на глаз пьяницы заводят,
как будто перед собственной виной,
свои глухонемые оправданья;
да что-то и в тебя, как ты призналась мне,
запало чуть не с первого свиданья...
Так пусть же на съедение волне
идет рисунок – он без дарованья,
он верно лишь копирует черты!.. –
Но разве же таким меня запомнишь ты?
449.
Вижу яростный лик небосвода,
знать не знаю лица своего.
Сколь ничтожна моя несвобода
перед явленной волей Его!
О раскованность! О торжество!
А еще говорят – непогода...
450.
Вадиму Халуповичу
Всю зыбкость пятнистого света
в трехстопный вложу амфибрахий.
Какое счастливое лето
глядит в декабре с фотографий!
За окнами вьюжит и мглится,
всё шапки да шубы сплошные.
А тут – еще легкие лица
и воротнички отложные.
Среди негустого лесочка
стоим мы, друзья и соседи.
Моя долговязая дочка
гарцует на велосипеде.
А сам я – на фоне веранды
кота подхватил под микитки.
Беспечности нашей варианты,
и настеж, конечно, калитки!
У гостя в руке сигарета,
он прыскает от анекдота...
Какое счастливое лето –
как перед войною когда-то!
Комарово. Последние...
451.
Поспешу ли найти оправданье,
ничего не скажу, – все равно:
в девятнадцатом веке – рыданье,
а в двадцатом – усмешка в окно.
А в двадцатом – ни жалоб кузине,
ни бессонницы, ни дневника. –
Через город, в гремучем бензине,
ты идешь, и походка легка.
Под мотивчик какой-нибудь шалый,
измывающийся над душой,
ты уходишь в себя, и пожалуй –
до галактики ближе чужой.
453.
Никакая как будто еще и не старость,
столько воли вокруг,
но единственное, с чем душа не рассталась
это речка и луг,
лес за речкой, и тварь неразумная Божья,
и тропинка, – уже
до разлившегося на весь мир бездорожья
нету дела душе.
Из событий – одни только лоси в тумане
да луна сквозь кусты, –
все бесстыдней день ото дня, все безобманней,
безнадежнее ты
счастлив домом своим, домочадцами, дымом
между сосен, котом
на крыльце, и в неведенье непобедимом,
как все будет потом.
456. Родине
Иду, столбы считаю,
ни встречи, ни привала.
Взметни воронью стаю,
чтоб даль не пустовала.
Швырни проселок в ноги
от большака налево.
Да трактор у дороги
поставь ржаветь без гнева.
Да в час похмельной злобы
каблук в грязи оттисни. –
Как мало нужно, чтобы
своим прослыть в отчизне!
Как много нужно, дабы
мою судьбу сыновью
пронзило навсегда бы
той странною любовью!
457.
Леском пройти короче! Вдоль канавы
пупырчатой; пиная пни; минуя
зловонные завалы утиля;
шагая по осколкам дачной славы;
свою же непутевость матеря, –
запутаться в тропинке между сосен
и, прогибая почву торфяную,
вдруг посреди безвыходной глуши
задрать лицо в сияющую просинь
и – захлебнуться памятью души...
458.
По памяти рисую: вот изба,
край изгороды, церковь и с обрыва –
тропинка... Я коснусь ладонью лба,
от мухи отмахнусь нетерпеливо
и, напрягая зрение, всмотрюсь...
... Нет, никакая вроде бы не Русь
и никакая даже не Россия...
Вот девки с коромыслами идут,
вот мы бежим с мальчишками босые,
вот вечный дядя Ваня тут как тут, –
не первая ли удочка в округе!
Я чувствую доныне, сколь упруги
чуть влажные нагретости тропы...
... Не Псковщина еще, пожалуй, даже...
А тетя Дуня за реку в грибы
ходила, и улыбочка все та же,
что и тогда, полсотни лет назад.
Кладбищенские тополя сквозят
на солнце, нестерпимая блескучесть
в листве тех незапамятных времен...
... Не Святогорский даже и район...
Отматерясь, отсовестясь, отмучась,
моей деревни дух и естество
погасли. По-немилому все ново,
запущено, расхищено, мертво...
... Неужто и народу-то всего
на родине, что у ларька пивного?!
459-463. Последним друзьям
2 (460).
Отечество ли, отчество ли – их
не выбирают: нет на это воли.
Тяжелая тебе досталась честь,
глухое унаследовано поле,
и Отче наш всесильных губ твоих –
осинового лепета невнятней,
и воронье висит над голубятней
твоею – над какою ни на есть!
4 (462).
Ломаются ногти и рвутся шнурки.
А может быть, правда, что мы старики? –
Встречаться – как будто прощаться.
Вчерашняя водка стоит на столе,
хоть капельку выглядеть навеселе
мои сопечальники тщатся.
Присядет на краешек время само.
Мы как с того света читаем письмо:
герой не забыть нас божится.
А нам оставаться на этой земле,
рыдать-убиваться об этой земле
и в эту же землю – ложиться!
Мы заполночь выйдем, хоть выколи глаз.
Вокруг сто углов, ненавидящих нас,
заблеванных сто подворотен.
За нашу судьбу и полушки не дашь...
Качается город... дичает пейзаж...
и все ж таки путь ежедневнейший наш –
до ужаса бесповоротен.
5 (463).
Опять городское безлюдное лето.
В канале осклизлой волны переливы.
Колеблет дома петербургского цвета –
лиловый, линялый, ленивый.
Вдоль берега узкие окна змеятся,
замковые камни кривляются грубо.
Того и гляди, не начнут ли смеяться
мои невеселые губы.
Живем вот, жируем, детей своих женим,
гордимся своим петербуржеством нищим.
А цвету, ослабленному отраженьем,
так имени и не подыщим.
Разлуки с родными... разрывы с друзьями...
Не тонет лишь памятник архитектуры,
и маски лепные кривляются в яме,
и сам усмехаюсь я хмуро.
До гроба – лиловый, линялый, ленивый
колеблет вдоль берега жирную лету...
Пока отражается – мы еще живы,
исчезнет – и нас уже нету.
Да что: нас давно бы уже доконали
с друзьями разлуки, с родными разрывы,
когда бы не ласковый отблеск в канале –
лиловый, линялый, ленивый.
468.
Сколько ж было!.. А было... и жгло...
Неужели со мной это было?
Поросло.
Или сплыло.
Вот, казалось, любовь навсегда.
Дальше некуда вроде, казалось! –
И следа
не осталось.
Не осталось следа, говорю...
Нет, не то что забыл, а не помню.
Не курю –
и легко мне.
И легко пожимаю плечом.
Да когда и вздохну тяжелее, –
ни о чем
не жалею.
Так и чувствую, как с высоты
шаг за шагом спускаюсь я к дому...
Ну а ты?
По-другому?
469.
Любовь... О господи, любовь!
Любила – не любила...
Чурайся, ерничай, злословь,
забудь, как это было,
не верь, что было не уснуть,
все перепутай даты –
и все ж до гроба счастлив будь,
что мог любить когда-то. –
Когда под шорох грозных крыл
держать ответ придется,
шепни одно лишь: “Я – любил”, –
и жизнь тебе зачтется!
470.
Ни по лесу, ни по полю, ни вдруг –
через овраг, не разнимая рук,
ни на берег под звезды, ни во тьму –
сверяясь лишь по сердцу своему.
И ни банальных слов не повторять,
и ни, тем паче, голову терять,
и ни вздыхать на весь на белый свет,
ни даже ручкой не махать вослед.
Ни ревновать, ни – Боже сохрани! –
надеяться, ни жаловаться – ни –
чего, и ни-куда, и ни-когда
ни – с кем уже. Все было. Все вода.
475.
Нет времени уже роптать.
Чем меньше слов, тем больше слово.
Идем вдоль луга золотого,
четырехстопна благодать.
Но – нет, не тени с полуден
длинней, ни реплики короче –
неотвратимым кругом ночи
наш день по краю обведен.
Неотвратимо сознаем,
в какую тень несут нас ноги.
Слова сливаются в итоге
в одно молчание вдвоем.
В одну бессмысленную тень
вливаются две наших тени, –
и ни мечтаний, ни хотений,
ни памяти на прошлый день...
Так не от счастья ли сейчас
нам должно плакать, Диотима? –
Луг золотой... И мы взаимо-
доверчивы... И запах дыма... –
Воистину: довольно с нас!









|
Партнеры: |
| Журнал "Звезда" | Образовательный проект - "Нефиктивное образование" |