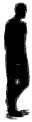 |
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ |  |
|
|
||
|
|
||
|
рецензия на роман Анатолия Королева "Эрон"
Я прочла от начала до конца грандиозный (по массе) роман Анатолия Королева "Эрон". Отношения писателя и читателя с некоторых пор
строятся как соревнование. "Написал!" - натужно кряхтит один. "Прочитал!" - жилится другой. Усилия сторон практически
сравнялись. Рапорт сдал - рапорт принял. Вольно! "Эрон" в текстовом потоке последних лет (времен? -М.К.) второе после "Бесконечного
тупика" Д. Галковского русло, убедившее меня в необходимости пересечь его, хотя ничто - ровно ничто в прошлом автора этого не
предвещало. Проблема Королева, как и я, человека 70-х, (хронотоп, пронизывающий роман, страстно подробен именно на этом отрезке времени) это
проблема автора, которому так долго не удавалось сказать ничего, что он решил сказать сразу все. Всего же не говорит и Творец, и
человеку кажется, что Он не говорит ничего. Высота молчания по отношению к слову, может быть, самое близкое мне ощущение в романе,
сообщаемое читателю. А в пушистый авторский затылок горячо и влажно дышит проблема свободы. О ней, вожделенно-бердяевской, Королев заводит речь уже в
предисловии к тому избранного, выпущенному издательством "Терра". От нее, сокровенно-невыразимой, к последней странице автор
находится на расстоянии мифа или мифологической составляющей романа. Да и сама желанная оборачивается этой составляющей, если
смотреть из контекста. Ведь человек с философской подготовкой А. Королева не может не понимать, что свобода писателя - это прежде всего
отречение от писательства, устремление к недостижимой высоте молчания. А писательство - несвобода по определению, едва ли не высшая
форма несвободы. Но и это тешит тщеславие вечного узника мира - автора, потому что даже отрицательное высшее указывает на
избранничество, и ради этого невидимого нимба писатель готов носить пожизненно невидимые же вериги (пытаясь и то, и другое
понастырней продемонстрировать и повыгоднее продать). Второй миф - или стереотип, которому Королев подвержен, - это собственно миф о романе как некоем обязательном атрибуте избранника, не
просто писателя, но писателя великого, ВПЗРа, если перенестись на грешную землю русскую. Причем, ВПЗРа, всей душою вот уже два столетия
стремящегося к званию ВПЗЕра, великого писателя земли европейской, попирателя священных камней и прихлебателя кубка Грааля, про
который, конечно же, Королев не забывает ввернуть фразу-другую в "Эроне". Тени Пруста и Майринка, правда, спугиваются зачастую
тенью претендента от города Киева по фамилии Булгаков, а тень патологоанатома от Ирландской республики, справляющего непереводимые
поминки по Финнегану, приходится вызывать мощным спиритуальным усилием; филигранный сюжет с французским парфюмером,
рационалистически исследующим амбре московского сортира и сбивающимся на московской шлюхе в духе (симпатичная рифма! -М.К.) Вилье де
Лиля, заваливается за витрину одноименного и - увы! - одновременного романа П. Зюскинда... Да что там говорить! Черт догадал родиться...и
пр. Свободен был Чехов, романа не писавший. Отечественный жанр повести, обкатанный Королевым в "Голове Гоголя", вылезает из "Эрона"
со всех сторон, и если бы не обязательная программа (автор внутри текста неизменно именует себя романистом), русская литература
приросла бы сразу несколькими образцами этого жанра - лапидарного, экономичного и эстетичного донельзя. И даже то обстоятельство, что
мифически-фотографическое пенсне Набокова воспринято Королевым как стилистический крест - или те же вериги, - не мешает его
феерической провинциальной талантливости и экстатичному, по-русски женственному лиризму. Миф о романе тесно увязан с типологией романа конца тысячелетия, согласно которой он непременно должен быть заявлен (если уж не
исполнен) как роман постмодернистский. Что это такое, никто доподлинно не знает. А. Королев начинал "Эрон" явно как традиционный
русский социальный и семейный роман-эпопею, затем дело перешло в роман-фантасмагорию и философскую утопию, затем разбавилось игровым
и социологическим аспектами, затем - потеряло берега в "буйстве глаз и половодье чувств", то есть желании сказать все. Очевидно
одно: роман постмодернистский есть роман в присутствии постоянно рефлектирующего автора при постоянной демонстрации его воли,
точнее самоволия. В остальном "Эрон" роман безусловно романтический, но именно внутри романтизма и заложена мина безраздельного
авторского эгоизма по принципу: что хочу, то и ворочу, без намека на пушкинское изумление медиатора-исполнителя: "Какую штуку удрала
со мной Татьяна!" Главным же мифом и в то же время архетипом постмодернистского романа служит миф о поле (Эросе) и хайдеггеровский, нещадно
эксплуатируемый Королевым миф о времени (Хроносе). От двух мужских (по мнению автора) начал и рождается автохтон романа - бегущий бог
Эрон. Но однополое соитие, которому в романе отведено приличествующее мировой конъюнктуре место, с одной стороны исключает зачатие, с
другой - оспаривает половой миф: Содом был спален спустя вечность после изгнания из рая гетеросексуальных прародителей. Собственно,
повальный идейный и легализованный телесный гомосексуализм второй половины ХХ столетия и есть кривое, дьявольское зеркало этого
опровержения. Женщины же, возлюбленные автором как героини, либо странно и прекрасно юношественны, либо склонны к трибадии - недаром
сестры Надя и Люба (Надежда и Любовь) носят теннисную и культовую в лесбофильской тусовке фамилию Навратиловы, - либо вестальски
девственны, как таинственная Мелисса, либо чают девственности как Воскресения мертвых (все педерасты в романе обаяшки, все лесбиянки
мегеры; про Ллойда Уэббера доложено, что он гей, про Элтона Джона - опущено). А преследующий автора образ гермафродита свидетельствует
о полноте понимания, что мир находится на переломе пола, хотя и конвульсивно добирает остатки этой стимулирующей иллюзии - самой
длительной в человеческой истории и самой противоречивой начиная от сотворения мира. В криминальном же хронотопе, регистрирующем
события Рождественской ночи 1984г., мальчик в возрасте гормонального разгула кончает с собой, не умея справиться с Онановым пороком,
затерзав свое растущее мужское достоинство до сплошной коросты. Надеюсь, автор осознает иронию и этой метафоры постмодернизма,
несмотря на постоянные упования на подлинность. Последний атрибут романтизма в "Эроне" - близость и возможность Бога. Не как Творца неба и земли. Не как Пути, Истины и Жизни. И уж
тем более не как Отца-Вседержителя в каноническом понимании, - свою гипотетическую свободу человек 70-х ощущает как свободу от догмата
в первую очередь. Романтический Бог - это некий чудесный посланец, чаще всего эклектического, то бишь языческого свойства (см. название
произведения). Ведь и булгаковский Воланд - сатана, творящий добро, - весьма далек от изображения ада на иконах и фресках, но уж как
близок к "гостю" Ивана Карамазова! И Христос Скорсезе-Казандзакиса не Спаситель и не Искупитель, но бог интеллектуалов, приятный
и понятный им. В финале романа двоящееся сознание бедной Нади Навратиловой воспринимает такого посланца то ли в наркотическом бреду,
то ли в предсмертном Откровении попеременно Аггелом - воздушноперым ангелом света - и насилующим ее в больнице карликом-санитаром. В
приступе самоволия - паллиатива недоступной свободы - автор разобрал и разрушил образ героини. Потому что человек стал сложнее Бога.
Ровно на грех, в искупление которого не смог поверить. Потому что простота сердца стала поистине ересью новейшей литературы: того
гляди сожгут - и рукопись, и автора. Потому что свобода есть бесстрашие перед мнением мира сего, а писательство есть заискивание перед
ним. Если же посчитать в романе страницы, написанные по стандарту добротности, выйдет хороший показатель. Ведь автору важнее всего знать
про это. И пусть знает! А на остальное ему позволяется закрыть глаза. Еже писах - писах. Остальное - наше дело, читательское. Марина Кудимова |









|
Партнеры: |
| Журнал "Звезда" | Образовательный проект - "Нефиктивное образование" |