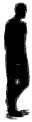 |
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ |  |
|
|
||
|
|
||
– Александр Семенович, во-первых, поздравляю с новой книгой – "Облака выбирают анапест". Легко ли сложилась? Просматривается ли там, на Ваш взгляд, сюжет? Задумывался ли он? Ведь поэтическая книга, как мы знаем из Ваших статей, в современном стихосложении выступает как большая поэтическая форма.
Книга стихов для меня – это сгусток мыслей и чувств, примет и наблюдений, осмысленного опыта жизни – за те три-четыре года, когда создавались стихи, вошедшие в нее. Никаких предварительных установок, сознательных намерений здесь не существует. Я не пишу стихи по заказу, и по собственному заказу тоже не пишу, но когда стихи складываются в книгу, всякий раз оказывается, что в них есть нечто новое. Это новое является само собой, продиктованное временем, возрастом, новыми обстоятельствами и т.д. При этом очень важно, чтобы читателю не было скучно ее читать. Как этого добиться?
Разумеется, думать о читателе, создавая новое стихотворение, невозможно и не нужно. Но написав стихотворение, ты должен уметь взглянуть на него со стороны: а вдруг оно никому, кроме тебя, непонятно? Имеют смысл только те стихи, которые идеальный, неведомый тебе читатель захочет и сможет прочесть от своего имени, как нечто имеющее к нему прямое отношение.
Вы спрашиваете меня о сюжете книги, просматривается ли он в ней? Надеюсь, какой-то сюжет просматривается, но, конечно, в самых общих чертах. Здесь надо быть очень осторожным: ведь речь идет не о прозе – о стихах. А есть ли сюжет в книгах других поэтов, любимых мной? В «Кипарисовом ларце» Анненского? Или в «Сестре моей жизни» Пастернака? Боюсь, что сформулировать его нам не удастся. Он просвечивает, он мерцает, он очень близок к таким понятиям, как тональность, общее настроение, повторяемость некоторых мотивов.
Скажу еще несколько слов по поводу названия книги. «Облака выбирают анапест» -- что это значит? Вам, человеку, пишущему стихи, хорошо известно на собственном опыте, как трудно дать книге название. В этот раз оно пришло неожиданно – и тоже никак не было запланировано заранее. Просто я вдруг понял (и давно об этом догадывался), что стихотворный размер в стихах нередко бывает подсказан ключевым, опорным словом. Слово «облака» – трехсложное, с ударением на третьем слоге. Это и есть анапест. Тут я вспомнил и свое любимое стихотворение Анненского со строкой «Облака, мои лебеди нежные!» Надо же, – подумал я, – тоже анапест. Кроме того, посмотрел с этой точки зрения на стихи, вошедшие в книгу, и увидел, что многие из них написаны в этом размере: «Кто же вьюги в апреле боится?», «Эти воины с лицами злыми…», «Только люди… И все-таки птицы…», «Ты, страна моя, радость и горе…» Кроме того, одна из моих любимых мыслей заключается в том, что регулярные размеры: ямбы, хореи, дактили, амфибрахии, анапесты – необычайно соответствуют самой природе русского языка, как будто нарочно созданного для них. Склонения, спряжения, система ударений (ведь ударение может приходиться у нас на любой слог: первый, второй, третий… последний, а чередование ударных и безударных слогов и лежит в основе метрики), наконец, свободный порядок слов в предложении («Редеет облаков летучая гряда…» – где здесь подлежащее? – в самом конце предложения; такое невозможно, например, ни в английском, ни во французском языке) делает наш язык невероятно гибким, податливым, мелодичным. На Западе поэзия сегодня отказалась от регулярных размеров и рифмы, перешла на верлибр – и поэзия потускнела, из нее ушла музыка.
Боюсь, что эти мои рассуждения покажутся скучны читателю газеты, и все-таки говорю об этом в надежде на то, что интеллигентный, любящий стихи читатель меня поймет – и ему сказанное здесь покажется интересным, кое-что объясняющим в таком эфемерном и уединенном, одиноком деле, как стихи.
– В одной из рецензий я прочла, что Вы впервые написали книгу о смерти. Как-то не слишком я с этим согласна, на мой взгляд, скорее, о преодолении смерти. А что скажет автор?
– В предыдущем вопросе мы говорили о сюжете книги. Так вот, одна из его составляющих – это, действительно, стихи о смерти. Но только одна из составляющих. А кроме того, всякое определение упрощает поэтический смысл. Я бы сказал так: некая тень, присутствие грозного дыхания ощущаются в стихах, но ведь и всегда так было, даже в ранних стихах: «Смерть, как зернышко на дне, светит блеском разноцветным», «А без этого зерна вкус не тот, вино не пьётся». В то же время рецензент, молодой поэт Василий Ковалев, говорит, что я, с его точки зрения, «самый радостный поэт» – и стихи о смерти «представлены далеко не в байроновско-лермонтовском свете»: в книге, наряду с мрачной темой, присутствует «оглушительное счастье, противостоящее холоду небытия». И действительно, даже в одном из самых мрачных стихотворений («Луч света в темном помещении…») говорится о счастье жизни: «… Спасибо погребу, чулану, / Сараю, нише, чердаку, / Я сокрушаться перестану/ И мысль от смерти отвлеку./ Какой он пламенный, безгрешный,/ Небесный, словно небосвод/ Нашел тебя во тьме кромешной./ Он и в гробу тебя найдет».
– Вы сказали, что в этой книге, как и в прежних, отражено прожитое время. Мне тоже кажется, что, наряду с Вашим, личным временем, в ней запечатлено и наше общее, так сказать, коллективное время. Я отметила, например, стихотворение «Большая восьмерка» или, в других стихах, упоминание в смешном контексте имен Жириновского и Примакова…
– Да, это так, что мне и самому несколько странно. Но замечу все-таки, что даже и эти имена появляются в лирических – не в публицистических стихах (стихотворной публицистики я не пишу). Речь идет о причудливости нашей памяти, о блуждании ее впотьмах в поисках нужного слова, – и обращено стихотворение к любимому человеку: «Вот, – говоришь, – забываю слова,/ А с именами и вовсе морока…» Есть в этих поисках что-то волшебное и в то же время смешное (это хорошо понимал Чехов – «Лошадиная фамилия»): «Как хорошо, – говорю, – что найти/ Сразу не можешь запавшее слово…»
Вообще надо сказать, что время – как личное, индивидуальное, так и общее, коллективное, – замечательная категория, напрасно его третируют философы и богословы. Они признают только вечность, а поэзия, во всяком случае та, которую я люблю, обращается не столько к вечности, сколько ко времени, понимая при этом, что время – это форма вечности, данная нам в ощущениях, земная ее форма. Скажу так: еще неизвестно, понравится ли нам вечность за смертною чертой, а вдруг нам будет скучно? Всё весна и весна, вечная весна… Незакатное солнце… Сплошное блаженство… Но ведь захочется и во тьме посидеть, и чтобы выпал первый снег, и свет зажечь, и стихи написать, и потом что же это за жизнь без слез?
Вот об этом земном времени с отсветом вечности, лежащим на нем, и говорит поэзия. Об этом, мне кажется, я и пишу в своей книге: «… Или Бог, привыкая к земной печали,/ Увлекается так красотой земною,/ Что, поставив ее впереди морали,/ Вслед за нами тропинкой бредет лесною?...»
– Ваша книга открыла новую серию, издаваемую при журнале " Арион ". Вышла она практически одновременно с книгой Леонида Мартынова. Не смутило такое соседство?
– Отвечу коротко: нет, не смутило.
– Александр Семенович, вы вновь были в Липках, уже не первый раз. Что меняется год от года, а что уже укладывается в устойчивую тенденцию?
– В Липках под Москвой проходит по инициативе фонда Сергея Филатова ежегодный форум молодых авторов. Это очень нужный форум: молодые прозаики и поэты имеют возможность показать свои произведения опытным литераторам, выслушать их мнение, получить оценку своего труда. Не помню, в пятый или шестой раз я принимаю участие в этом форуме, веду поэтический семинар. Молодой человек может быть очень талантлив, но ему нужна подсказка: очень часто неправильная установка искажает перспективу, заводит в тупик, губит талант.
Иногда бывает достаточно сказать: вы преисполнены лучших намерений, но ваши стихи беспредметны, умозрительны, лишены подробностей и деталей, а в них-то и гнездится поэзия. Я читаю вас, но не вижу, где вы живете, что видите из своего окна, какие вещи и люди окружают вас. Ах, вы живете в Ставрополе? Я никогда там не был. Мне бы узнать, какие деревья шумят у вас в саду, есть ли в городе река, походить с вами по улицам, зайти к вам домой, узнать, как вам живется… В каком-то смысле вам даже можно позавидовать. Понимаете, о Москве или Петербурге мы так много знаем, петербуржцу или москвичу трудно быть оригинальным, о Петербурге писали и Пушкин, и Некрасов, и Блок, и Анненский, и Мандельштам, и Ахматова, и мы, грешные… А вот о Ставрополе – еще никто! Как это интересно, как увлекательно… И я вижу, как глаза загорелись, вижу, что человек понял: перед ним несметные возможности, о которых он до сих пор не догадывался, ничего подобного не предполагал.
Все десять участников моего семинара были людьми из провинции: Тамбов, Новосибирск, Карелия, Ставрополь, Казань… А Георгий Васильев – из Минска. И, между прочим, я заметил, что молодой человек чувствует себя едва ли не в эмиграции; во всяком случае, его стихи своим аскетизмом, отсутствием украшений, стремлением говорить по существу и о самом главном напомнили мне «парижскую ноту». Думаю, они могли бы понравиться Георгию Адамовичу, – я так и сказал – и видел, что молодой человек обрадовался и задумался.
Мне тоже такие встречи с молодыми авторами кое-что дают: можно проследить некую тенденцию, вектор сегодняшнего движения молодой поэзии. Если я не ошибаюсь, самые способные молодые поэты разочаровались в авангарде – и слава Богу! Сколько можно дублировать заумь и бессмыслицу? Безумие однообразно, в клинике для душевнобольных ничего нового узнать нельзя. А смысл неисчерпаем, смысл непредсказуем, смысл «дарит нас ощущением жизни».
– Можно ли говорить о какой-то особой "поэзии молодых"? Об особой их лексике, особом обращении со словом? Что они вообще собой представляют? Очередные бунтари?
– Об особой поэзии молодых, так же, как об особой поэзии взрослых или пожилых, говорить нельзя. Настоящая поэзия всегда индивидуальна, оригинальна, не подлежит обобщению. Другое дело – имитация поэзии, подделка под нее. Здесь, конечно, существуют некоторые закономерности. О таких стихах можно говорить скопом, сгрести всё в одну кучу. Об авангарде и его наметившемся отступлении я уже сказал. На наших глазах сложилось еще одно направление, характерное и для «взрослых», и для молодых: я бы назвал его неосимволизмом . Опять, как сто с лишним лет назад, поэтическая мысль устремляется в неземные миры, в пустоту, презирая подробности и детали земной жизни, опять куриная слепота, отсутствие зрительного ряда, опять высокопарность и высокомерие, опять банальности и отсутствие реального человека в конкретных обстоятельствах. На всех пишущих, как говорил еще Мандельштам о тех, давних символистах, – триста слов, словарь ирокеза. Ангелы, птицы, рыбы, или, как смеялся Чехов, «львы и куропатки», молитвы-битвы, принцы и тролли, вечная скорбь и земная юдоль… Но кажется, и это повторение прошлого подходит к концу.
Матерная брань в стихах тоже как будто выдохлась. На этом поприще ничего нового сказать нельзя – улица всегда окажется изобретательней и виртуозней.
Так есть ли что-нибудь новое? Безусловно есть. Только оно всегда связано с каким-нибудь конкретным именем и не может быть скопировано, продублировано, размножено. Пастернак, в юности входивший в футуристическое содружество, позже с горечью писал о том, что такие группировки выгодны бездарностям и подавляют талантливых людей. Настоящих поэтов и не может быть много.









|
Партнеры: |
| Журнал "Звезда" | Образовательный проект - "Нефиктивное образование" | Издательский центр "Пушкинского фонда" |
| Support HKey |