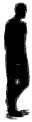 |
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ |  |
|
|
||
|
|
||

Почему так долго не мог прийти в себя? Что произошло? Ну, съездил на три дня в Хельсинки - так ведь не в первый же раз за
границей, а уж Финляндией кого удивишь?.. Ты смотришь в себя, тебе кажется, что ты обнаруживаешь в себе скрытый ресурс,
скрытый ракурс, на который не вправе был рассчитывать. Хельсинки - только повод. Жизнь кристаллизуется, вбирая в
застывающий остов крупицы настоящего, - и она еще длится, вытягивается, возвращается - на бумаге, во взгляде - вдруг,
полуобернувшись, вскинув голову, подняв брови - "что это там?" - и мягко склониться, опомниться. Не смысл, не
предчувствие или предвкушение смысла, но возможность иного, именно так, не пресловутого Другого, но Иного, -
возможность иначе. К записям моим не следует относиться как к попытке "портрета Хельсинки", как к анализу "души города" и тому
подобное. Я прочел этот город, прочел шагами - как слепые читают пальцами по азбуке Бейля, вернее, перевел его - с его
тяжеловесно незнакомого языка на язык своей жизни, сделал его частью своей речи - речью своей жизни: это и означает "понял"
- в синхронном переводе почти без умолку бедной спутнице моей излагая свои наблюдения и соображения. Вернее, не прочел,
а написал - шагами - под его диктовку, будучи не слишком прилежным и аккуратным стенографистом; вернее, вот сейчас пишу,
по памяти, что он надиктовал, что я расслышал - что сам набормотал, без ответа, но как бы в ответ - и это будет уже второй,
двойной перевод, но никоим образом не "обратный": ничего нельзя обратить вспять, никуда нельзя возвратиться,
продолжения, продления за грань этих трех дней - не будет. И, как ни странно, при всей уединенности и эгоцентричности моего слова, очень важно, что был я на этот раз не один:
ничего бы и не было без этой моей безропотной слушательницы, вернее, так не было бы: здесь должно нечто разыгрываться,
здесь должен быть третий, тот, кто рядом, вместе, ведомый тобой, но неведомый, неуловимый, иной, так же, как обступающий
и ведущий тебя, диктующий тебе город: они говорят, говорят совсем иным, тайным языком, языком "повадки" и все
происходит, случается в мгновения стыка - или, чаще, диссонанса - двух речей, двух бормотаний - вернее, трех, поскольку
твоя речь тоже звучит - она одна и звучит, если звучание понимать буквально - и из этой тройственной речи и
кристаллизуется нечто, похожее на жизнь. Вернее, она и есть эта тройственная речь: ведущего, ведомого и того, кто
посредине - в странном, похожем на сомнамбулический танец, спектакле меняющихся ролями: кто кого ведет? кто кому
диктует? кто лицезрит, кто лицедействует? Хельсинки - подмостки театра одиночеств, если выражаться с подобающей
обстановке высокопарностью. Ведь и прибыли мы сюда по "театральному поводу", на защиту диссертации, посвященной русскому актеру. Она
проходила в здании Университета: вполне стандартный ампир, и, соответственно, вполне стандартная для зданий такого
рода лестница, ведущая к входным дверям, но - и я сразу не разглядел это (то есть увидел, осознал - потом, позже) - я ощутил
это мышцами ног, кинестетическое переживание предшествовало зрительному впечатлению, порождало его - ступени
необычно, непривычно высоки и узки. Наш-то Кваренги вообще предпочтет плавный, с изгибом въезд, без ступеней. Это
понятно - то есть, конечно же, "понятно" в кавычках - здесь нет петербургского простора, петербургской
плоскостности; Хельсинки - город тесный, улицы, по петербургским меркам, узковаты. Город - среди скал, среди шхер:
протоки, перепады высот, скалы, ложбины, заливы. Мы все искали "простор", но почти с любой точки горизонт сминался
очередной комбинацией островов, не слишком далеким берегом с белыми газгольдерами или махиной парома "Силья-Лайн";
лишь брезжил где-то проход, просвет, чаще всего обманчивый - и в этом была своя угрюмая последовательность - тайный,
заговорщицкий отклик той необъясняемой тяге к дворикам, к скрученной арматуре авангардных скульптур, к крепостным
казематам - той "клаустрофилии", как я в шутку эти пристрастия нарек - к той... И "теснота" - сама теснота - это не только (поверхностная) причина остраненных ступеней, не только некая
смысловая добавка к первичному кинестетическому переживанию, его "второе впечатление" - она сама тоже дана как
отчетливое двигательное, мускульное переживание: дома на слегка зауженных хельсинкских улицах кажутся как будто
немного выше, "чем надо", особенно вот эти, красного кирпича - как будто лишний один этаж, какая-то
непропорциональность, что ли. Ты чувствуешь, как город выдавливает свои дома вверх, сжатие, утеснение ведет к
вертикальной деформации - как из тюбика выжимается паста. Вдруг почти посреди улицы - вылезшая, вытесненная - выжатая
из земли - скала, серогранитный надолб. И точно так же "выжаты" эти знаменитые башни - и у прославленного
железнодорожного вокзала, и у церквей; этот же "башенный" мотив нередок и на домах (в архитектурном декоре вообще
доминирует вертикаль): или эркер, или фонарь, или просто выделенная малооконная середина, или, вот, башенки на углах
"Повелителя ветров" Линдквиста - они тоже как бы вытеснены из стесненности, непросторности. Даже стандартные
ампирные колонны неожиданно получают здесь новый, "башенно-вертикальный" смысл. И нет того знакомого "готического"
- пражского - ощущения полета, нет взмывания, устремленности вверх, стремления "уколоть небо". Все дело в этой "умной" телесности тесноты, когда очень близко, но не касаясь, даже случайно - и не желая
коснуться, вот что главное; только речь иногда касается речи. Все дело в этом стеснении, замешательстве. Волны - внизу,
облизывают языки скал, стекающих в море под крепостной стеной Суоменлинна - и белые, выцветшие, как будто пересохшие
водоросли там, куда вода уже не достает. Не успеем спуститься, нас ждут; испытать тяготение вниз, к шуму и брызгам - но
нет, осязанию пищи не будет - только тяга, только напряжение в икрах, готовящихся к спуску, которого не было - и не могло
быть - и в этом все дело. Нет, не желание, это было бы слишком тривиально, а именно и только чистое предощущение, чистая
эгоцентрическая интенция, возможность иного, возможность иначе. Я не жалею о том, что не спустились, не жалею о том,
чего не произошло, - потому что осталось это стесненное дыхание, теснота напряжения, не дотягивающегося до смысла, -
слишком неоформленного, чтобы стать настоящим желанием, вносящим излишне резкий и ясный смысл. Еще раз: не касание, не осязание, не азбука Бейля, нет, - а то, что предшествует прикосновению - чувство сокращающихся и
расслабляющихся мышц, чувство сокращающейся тончайшей прослойки воздуха, сама эта прослойка - не исполнимое,
заведомо не исполнимое обещание. И не зрение (потому и не портрет, и не фотография) - скорее, все то же кинестетическое
переживание неприкосновенности, неприкасаемости - непродляемости за грань. Но, в свою очередь, и это ощущение (переживание) вытеснения, тяжкого вытягивания ввысь отщепляется от якобы
обнаруженной "причины" - от хельсинкской "тесноты" - семантическая вязь рассыпается - нет, не полностью, но
возникают характерные провалы - кинестетическое переживание "стесненности" задето, но не захвачено смыслом,
смысл тоже как бы тянется к нему, но не прикасается - тонкая воздушная прослойка вздрагивает перед тянущимися
пальцами ослепшего смысла, не смеющего, не желающего коснуться, взять, присвоить иное: остается "кинестетическое
переживание" недотянувшегося смысла. Так вот, на той же Сенатской площади, где расположен Университет, в центре
высится Кафедральный собор - площадь широка, по-петербургски просторна, а собор на возвышении, на скале, и к нему ведет
высоченная, почти в его рост лестница - с такими же, как перед Университетом "остраненными", тесными ступенями: но
ведь здесь-то, на площади, для этой странности уже никакой функциональной мотивировки, мотивировки "теснотой" не
имеется. Да и с самим собором, которого уж заведомо никто не утесняет, как будто не все в порядке. Он построен еще до
финского романтического "возрождения" и вполне традиционен по архитектуре - что-то напоминающее Троицкий или
даже Исаакиевский... Но какое-то беспокойство заставляет пристальнее к нему приглядываться: ну конечно, барабан
купола удлинен чуть больше, чем "следует" (или это только кажется?), это-то и вызывает "остранение" - пропорция
слегка смещена - и в сторону все той же "башенной" выдавленности. А издали, особенно с моря, когда возвращаешься на
катере из Свеаборга, собор вообще как бы висит над городом: нет, не "висит", воздушные метафоры, метафоры полета
здесь неуместны - "выпирает", вылезает, тяжело выпрастывается из земли, да еще и голову - купол - вытягивает, но не с
любопытством, не с приподнятыми бровями - "что это там?", а натужно высвобождаясь из каменного, гранитного капкана:
чтобы остаться в одиночестве, в возвышенности, наверху. Я опять перебиваю себя: речь должна быть неровна и бугриста как город - отступать, оступаться, сворачивать в
неожиданный проулок. Я не рассказываю, "как было на самом деле" - может быть, это и нечестно по отношению к жизни, к
тому, к тем, о ком пишу, - если спрятаться за этим невинным подлогом местоимения, вернее, его рода и числа. Но я и не хочу
ничего возвращать, ничего продолжать. Когда я рассказывал о городе - когда я сейчас делаю это - я читал - читаю - между
строк, я вписываю собственный текст; в сущности, я дурной переводчик, нетвердый в грамматике чужого языка - и это тоже
вполне уместно в Хельсинки - ведь у финнов не было "настоящего" прошлого, они придумали его - но, что принципиально
важно, не на пустом месте. "Калевала" сочинена Леннротом - но все же на основе подлинных фольклорных сказаний:
такова и моя цель - сочинить Хельсинки, составить его, как ребенком я складывал игрушечный дом из крохотных бревнышек -
составить его - из его же улиц, его же домов, шумов, запахов, смыслов, опавших листьев, из его моря и его скал. Это редкая
удача: иметь такую возможность реконструкции-имитации прошлого, как у финнов. Финские архитекторы, привнося в
современные здания "национальную специфику", "архаику" не были скованы жесткими прописями, они в
значительной мере сами же эту "специфику" и "архаику" придумывали: и дикий камень цокольных этажей, и
вычурные "пещерные" двери, и безглазые башни, и серый гранит. Финский, северный серый ("холерный") гранит, так
замечательно прижившийся в Петербурге, "придуман" именно здесь. И неприступная Свеаборгская крепость тоже в
каком-то смысле "придумана", тоже "ненастоящая": почти сразу же после постройки она была сдана без боя и
осталась всего лишь великолепной декорацией неприступности. Кажется даже, что и обильнейшая зелень покрывает бронзу
хельсинкских памятников как-то чересчур демонстративно, театрально: особенно как раз (почти пародийных в своей
глупой возвышенности) Леннрота с Вейнемейненом в сквере напротив Старой церкви: патина служит как бы подложным
свидетельством подлинной старости, невинной ее декорацией. Чем-то подобным, такой же реконструкцией-имитацией занят
и я - не на пустом месте, но и вне категорий "достоверности" и "адекватности". Я потому, наверное, и не люблю
фотографии с ее честной буквальностью; не фотоснимок и даже не пейзаж, не портрет - уместна, пожалуй, лишь
архитектурная метафора - речь-то ведь и идет об архитектуре, всего лишь об архитектуре - складывание дома, игрушечного
дома настоящей жизни. И если параллельно возникают какие-то робкие притязания на якобы портрет - так это тоже своего
рода "игра в кубики". Слова "красота" или "любовь" здесь были бы, пожалуй, более всего неуместны. Еще раз возвращаясь к хельсинкской "тесноте", я хочу подчеркнуть ее "несредневековость". Узкие пражские
или таллиннские улочки не "тесны", да и ландшафт там не диктовал тех или иных пропорций - диктовало время. В
средневековом городе теснота исторична, а, стало быть, в первую очередь о-смыслена, апеллирует к смыслу, а не порождает
кинестетических сенсаций, не порождена ими. Она вообще - постольку, поскольку исторична - не пространственна, а,
напротив, пропитана временем, нашпигована временем: средневековая теснота - это сгусток, стеснение именно времени, а
не пространства. Да и любой город, не только средневековый - это, как правило, конгломерат следов времени. Но Хельсинки
из этого правила как раз и выбивается - выталкивается, выжимается, совсем как удлиненный барабан купола Кафедрального
собора или башня Национального музея. Хельсинки - иной. Теснота его ландшафтна, пространственна, она порождена
измельченностью островков и шхер, и потому-то, наверное, и может вызывать ощущение тревожной странности. "Несредневековость",
точнее, неисторичность подчеркнута и той великолепной естественностью, с какой модерн и ампир уживаются с
суперсовременной архитектурой - как на Эспланаде или на Алексантеринкату, где сверкающий зеркальными черными
стеклами торговый центр соседствует с угрюмыми зданиями Сааринена и Сонка, чопорными портиками Энгеля и Николая
Бенуа и вспухающими головоломками объемов Аалто. (Кстати, именно Аалто мне кажется самым хельсинкским архитектором,
именно и только у него хельсинкская "идея" тесноты и тяжкого выталкивания как бы архитектурно прорефлексирована
в грузно-запутанной объемности его творений, то есть буквально воплощена в камне, реализована, как "реализуется"
метафора, - а не дана в виде некой ауры, некоего прибавочного ощущения, в виде интериоризированного кинестетического
переживания. Мы еще встретимся с этим "буквализмом", с этим овнешнением внутреннего: и это тоже хельсинкский
лейтмотив, хельсинкский стигмат). Город пространства: не просто чтение (письмо) - шагами - мы заняты освоением пространства, его протаптыванием, "проторением",
переводом пространства на язык движущегося тела, "переживающих" ног, сидения на чудесно-странной скамейке в
глубине газона, где, в пяти минутах от центра, ты уже почти за городом, потому что прямо перед тобой осколок моря,
прилепившийся к скале дом на островке с левой стороны и темный лес на противоположном берегу - точно так же, как вдруг
ни с того, ни с сего кончается травяная обертка и из-под газона вылезает, топорщится скала и так странно идти по ней, а
потом спрыгивать с площадки на площадку, спускаясь, разворачиваясь, прикасаясь к камню рукой, цепляясь за него -
ребячество, в одиночку я бы точно делать этого не стал, постеснялся бы - и не было бы этой неотступной памяти
соприкосновения с теплым шершавым серым камнем и легкой встряски грузноватого прыжка на траву. (- Значит, все-таки
было осязание, касание? - всего мгновение: необходимый фон, намек, испуг). Это "спрыгивание" как бы входит в
обширный "кинестетический ритуал" Гельсингфорса, в сюжет освоения пространства, который вписан в этот город, в
тот город, тот сюжет, который мы пытаемся прочесть, проторить в толчее впечатлений. Нам не уйти от смысловой экспансии:
сюжет, лейтмотив, ритуал - это смысловые, смыслонаполняющие уже самим фактом своего возникновения категории, да и без
них, без смысла, на который они намекают, ничего и не было бы, так, поездка как поездка, интервал среди забот - и дело
вовсе не в том, что я не хочу все это понять и четко сформулировать, и нарочно запутываю синтаксис, чтобы породить
иллюзию глубокомыслия: я хочу уловить то мгновение, когда все становится иным, иначе, когда смысл обрывается, как
газон, из-под которого выползает скала, тот момент, когда он стекает с вещи, как стекает волна, расчесывая редкие
водоросли на лысине гранита. И все-таки дело не в смысле: ритуал, лейтмотив всего лишь структурируют хаос, создают конструкцию - речь идет скорее о
синтаксисе, а не о семантике. Возникает не смысл, а оправдание; то есть, все же смысл, если понимать это слово так, как
оно понимается в словосочетании "смысл жизни". Это ответ на вопрос "зачем", а не "что" или "почему" -
Зачем я поехал в Хельсинки? - Нет, и "зачем" слишком грубо, слишком прямо. Это вообще не ответ - скорее, вопрос,
ожидание вопроса, вдох перед началом осмысленно вопрошающей речи. Город уже по определению структурирует
пространство, но этого "мало": у него открывается некая повадка - как он ведет нас, о чем я веду свою "экскурсоводческую"
речь, куда заводит меня этот перевод. Как человека можно видеть, встречать ежедневно, месяцами, но так и не прочесть, не
услышать - до какого-то момента, когда немота вдруг тает, все обретает голос, когда возникает осмысленная речь, смысл
коей тебе недоступен - нет, речь идет не о характере, не о психологической подоплеке и мотивировке, но о той ауре
поведения, интонации, жеста, пристрастий, которая и зовется "повадкой". Смысл (то есть, мотив) - а он, ничего не
поделаешь, рано или поздно обнаруживается как суфлер за кулисами - как-то сразу все огрубляет: чудо возникает в тот
момент, когда прежде безразличное и как бы произвольное, беспорядочный и случайный набор ракурсов вдруг складывается
в "мелодию" с предчувствием "оправдания", с глупым сердцебиением, предшествующим так и не заданному вопросу.
И ничего "зачем", ничего "потом" с их грубой буквальностью - не нужно: отдернуть случайно коснувшуюся руку и
спрыгнуть с гранитной приступочки. И дело не в красоте или очаровании, никакого "удовольствия" или "умиления" громады Сонка, скажем, не
приносят - так же, как и эта угловатость, и эта ребячливая брутальность. Смысл отступает, как волна, но брызги остаются
на щеках, шум стоит в ушах; растерявшись, смущаясь, я замираю перед этой повадкой, обнажающейся от смысла и вновь им
накрываемой, перед этим Иным, мне недоступным, неприкасаемым для смысла и перевода: хорошо, войдем в этот дворик, что ж,
спустимся вниз, ладно, выпьем по банке синебрюховского пива, присев за бульварный заплеванный столик. Смысл должен
наплывать и опадать, чуть-чуть недотягивая до предмета, но только в его присутствии и возникает этот зазор, эти флюиды
теплоты от так и не прикоснувшейся руки: не от робости или лености, а потому что так надо, потому что это и есть самое
главное, вернее, единственное. И потому недостаточно "выталкивания" для не желающих взмывать хельсинкских башен, нужен как минимум еще один
ракурс, не вполне совмещаемый с первым, кинестетическим; не для объема, а скорее как раз для зазора, вопроса, для
нескончаемой погони за иным, инаким, для того, чтобы не взрастить иллюзию исчерпанности, чтобы не было соблазна
удовлетворенного касания, обладания. Этот ракурс, вернее, это имя - водопад. Хельсинкская вертикаль не рвется ввысь, но
падает вниз, не побеждает тяготение, но побеждена им, не освобождает, но гнетет: а это и есть "водопад". И потом, для
Финляндии образ водопада более чем натурален: петербургский бомонд частенько езживал любоваться на Иматру, а в
шведском слове Гельсингфорс вообще, оказывается, запрятано это слово fors - "водопад". Застывший водопад ("...храня движенья вид": какая точная формула придумана Баратынским, финляндским изгнанником, для этого невозможного символа сугубо внутреннего переживания), застывший водопад - это и замечательный памятник актрисе Иде Аалберг ("на самом деле" это занавес, памятник так и называется "Занавес": и ведь это не только моя ассоциация, помните: "водопадами занавеса, как пеной..."). И это же - одна из ассоциаций, провоцируемых фантастическим памятником Сибелиусу в Мейлахти. Глядя на него, в первую очередь, конечно, думаешь об органе, затем о северном сиянии, и, наконец, о гроздьях сосулек, о заледеневшем "яром токе". Вот она, буквальная реализация (опять!) старой метафоры о "застывшей музыке" - ведь это, наверное, единственный в мире памятник именно музыке, а не просто композитору. И, конечно, эта победа пространства над временем (по лессинговой классификации искусств) должна быть одержана именно в этом, архитектурном, "пространственном", пространство осваивающем, проторяющем свои дороги между скал городе. (Когда едешь в Хельсинки по шоссе, то первое, что поражает - именно эта проторенность, прорубленность дороги сквозь скалы, эти плоские гранитные, слоями обрушенные стены вдоль шоссе). При этом весь секрет памятника Сибелиусу - памятника музыке - всего лишь в смене ракурсов, в их множественности. Время моделируется бесконечной сменой вариантов в зависимости от места расположения зрителя: зритель становится "актером", исполнителем памятника. Все меняется, стоит отойти на несколько шагов в сторону: меняется общая высота, ритм повышений и понижений в гроздьях труб, их утолщений и утоньшений; монумент застыл в бесконечном развертывании, у него нет ни начала, ни конца, и нет единственно правильной точки осмотра. И так же, как нельзя сопрячь разные смыслы хельсинкских башен, невозможно - не нужно - синтезировать эти ракурсы в единый и единственный памятник; его суть именно в их бесконечности и неповторяемости, их умиротворение означало бы исчезновение собственно "памятника музыке" - скульптуры времени. И в памятник этот, как в гераклитов поток времени, можно войти, - всего один раз, неповторимо, как в эти три хельсинкских дня - можно оказаться внутри него - и испытать странное стеснение под переливающимися трубами, под башенной высотой задранного неба - точка касания (прикосновения) моей "умной" кинестетики и жестко-железной, "клаустрофилической" повадки с шестеренкою вместо брошки: прикосновения смыслов. Внутрь памятника: как будто разыгрывание в лицах, сценическое представление той интериоризации движения, зрения,
слуха, что вершится в кинестетическом переживании, в хельсинкской тесноте - это звучит самопротиворечиво, но именно
потому захватывающе: овнешнение самого движения вовнутрь, самого жеста свертывания, стеснения. Не это ли должно
читать в изначальном парадоксе "театральной" мотивировки путешествия в хельсинкское одиночество и
неприкосновенность? Это вступание в музыку - и еще дальше, в "провал" "гибкого дыханья" - символическое представление того, что
отрицает знак как таковой со всей его смысловой наполненностью и предметной отнесенностью, то есть своего рода
семиотическая ирония, точнее, постструктуралистский подлог, когда констатация невозможности дифференциального
анализа подменяется надстраиванием ("выдавливанием") нового интегрального уровня: кажется, достаточно
закрепить неким знаком (в данном случае таким знаком хочет стать проникновение внутрь памятника) кинестетическое
переживание, переживание свернутости - и ты будто бы овладел им, победил; возникает фиктивная мотивировка, имитацией
лейтмотивности разрушающая синкопическую мелодию нестыкующихся ракурсов "повадки": сама становящаяся
очередным "ракурсом", очередным "смыслом". И тем острее сознавать иллюзорность такого (и, в сущности, любого)
обладания - и его немыслимость. Прикосновение фиктивно, ты все равно остаешься один - тем более, когда касанием
разрушена последняя хрупкая возможность неодиночества, одушевлявшая незавершенное, несвершенное движение. Но и на этом не заканчивается обескураживающее движение овнешнения, самовыдавливания наверх, наружу; это движение
само "разыгрывается", реализуется движением внутрь (не фигуральным, а самым что ни на есть телесным) - мы уже не
внутри памятника, а буквально - и эта буквальность, "реализованность" ошеломительнее всего - буквально внутри
скалы - в церкви Темппелиаукио, вырубленной в гранитном монолите: все вывернуто наизнанку - теснота снаружи
оказывается гулким простором внутри - неужто все эти вспухающие объемы - всего лишь "пузыри земли"? Но дело даже
не в этом намеке на подлог и декорацию, не только в этом: внутри скалы играет музыка, мы как будто повторяем ("реализуя")
это странное вступание в музыку "Сибелиуса", поднимаясь на хоры послушать подземного Баха: оттаивающий в
холодном полутемном склепе водопад звуков. Та же, что у "Сибелиуса" несинтезируемая полифония ракурсов преследовала нас в Хельсинки постоянно. Когда
огибаешь весь центральный полуостров - от Торговой площади, по набережной Этеляранта, через Обсерваторную гору и парк
Кайвопуйсто, Эренстрёминтие и парк Фридриха Штернваля (не могу отказать себе в артикуляционном удовольствии
перечисления всех этих имен), - россыпь островов, заполоняющая горизонт, постоянно меняет свою конфигурацию. Тем более,
что перемещаемся мы и по вертикали: взбираясь на горки, спускаясь на камни. Особенно диковинные трансформации
масштаба возникают, если мимо возвышенных островков-скал с прилепившимися к ним аккуратными домиками и церквушками
медленно тянется паром, высовываясь своими циклопическими трубами из-за внезапно становящихся игрушечными холмиков
- но вот он продефилировал, и скала вместе с церквушкой вновь обретает свои солидные размеры. Вдруг весь горизонт, там,
где, казалось, и есть главный фарватер, перекрывает невесть откуда взявшаяся дамба; острова и проходы меж ними
перемещаются в каком-то сомнамбулическом заговорщицком танце - как когда-то персонажи "Кабалы святош" Анатолия
Эфроса, спектакля, о котором мы вдруг вспомнили, гуляя по свеаборгскому берегу: по ту сторону, уже как бы вне Хельсинки,
там, где, кстати говоря, вид и горизонт как раз и стабилизируются. То есть, конечно, ничего здесь странного нет - обычные
эффекты перспективных искажений, характерные лишь для свежего, наивно невежественного взгляда. Достаточно иметь
хорошую карту, чтобы все поставить на свои места. Но - но разве в этом дело - разве дело в том, чтобы знать единственную (топографическую)
истину, с помощью которой всегда с успехом можно "проинтерпретировать" - "поставить на место" зарвавшийся в
своем вдохновенном вранье, в своем "придумывании" того, что есть на самом деле, вид. Разве задача в том, чтобы
унифицировать, сшить лейтмотивными цепочками крошащийся комок впечатлений - или понять мотивы того или иного шага,
той или иной черты, психологически "объясняя" повадку. Я знаю, что это одни и те же острова (без этого знания и
странности никакой не было бы), знаю, что башня церкви Каллио - это и "водопад", и "выжатая паста", и "серый
гранит", и нордическое высокомерие и бог знает, что еще: это те же несовмещаемые и "поющие на голоса" ракурсы,
что в металлической музыке памятника Сибелиусу; - так же, как и любовь к обрывам, скалам, немецкому языку и высоким
тяжелым ботинкам. Ракурс, часть, осколок - вовсе не обязательно путь к целому, даже наоборот, это путь к его размытию,
именно, не разъятию, но размыванию, путь не к целому, но к Иному - синтаксис, сочетание ракурсов (но вовсе не безразлично
вытягивающаяся серия) - это и есть "повадка", и она ничего "единого" не отражает, и сама этим "единым" не
является - как необъяснимо захватывающая интонация, с легким немотивированным подъемом и чуточку преждевременным
обрывом - звучит сама по себе, слов не расслышать, да они и ни к чему - и малоинтересны, по правде говоря. "Виды" не складываются воедино, но и не дробятся: как логика моего повествования, двигаясь по которому, мы видим
не новое, но иные ракурсы одного и того же - не стыкующиеся, даже противоречащие друг другу - но тайной повадкой все-таки
сцепляющиеся в "мелодию"; как речь, когда идешь по набережным, сворачиваешь в Эйру: синкопы, паузы, потерявшиеся
жесты, умолкания, взгляд исподтишка, бормотание себе под нос - и вдруг на тебя обрушивается безглазая красная башня
церкви Микаэля Агриколы - последней, должно быть, (во всяком случае из известных мне) постройки Ларса Сонка. Все то, что
чуть брезжило в башнях Сааринена, в хмурых довоенных вертикалях того же Сонка - звучит здесь в полный голос: если "полным
голосом" позволительно будет назвать обволакивающую душу немоту: немота - это безглазость, полная и
бескомпромиссная безоконность башни этой церкви - ее слепота, ослепленность. Здесь не осталось ничего, кроме
телесного, мускульного: башня - ослепшая, оглохшая, слепоглухонемая, только тяжко вытягивающаяся из ложбины парка
Техтаанпуйсто. И вот странность: вблизи, тем более вдруг, она производит впечатление чего-то колоссального со своим
неуклюже заостренным завершением, но стоит немного подняться по улице Техтаанкату и впечатление колоссальности и
нордической трагичности пропадает, церковь благополучно вписывается в ландшафт - ракурсы вновь не сопрягаются и
сопряжены быть не могут (тут секрет, наверное, в том, что церковь действительно стоит в неглубокой низине; но, опять же,
это объяснение ничего не объясняет). Он слеп и нем, этимологией притягивая гул марша и печатающих шаг рядов: нем немотою немецкой - год постройки 1935-й.
Конечно, не Шпеер: здесь яркое и острое сочетание, несовмещаемое сопряжение модерна и конструктивизма, их "ракурсов",
заражение, отравление модерна конструктивизмом (или, скорее, наоборот). (Но как похоже все-таки на шпееровскую, тоже
безглазую башню германского павильона Всемирной выставки 1937 г. - с крестообразно раскинувшим крылья орлом - вместо
креста - на верхушке). - Когда разрушается уже и синтаксис, когда стихает артикулированная речь, когда затягиваются
катарактой глаза и остается только Geist - в тоске - вернее, в Sehnsucht'е по зеленой патине придуманного прошлого. Онемевший
Микаэль Агрикола: тот самый, что дал финнам речь, создал язык, выведя его из внелитературной тьмы, кто перевел на
финский Священное Писание - и оттого, что глухонемотой поражен именно он, холод этих жарко-красных вертикалей, их
тревожная неуютность - Unheimlichkeit - становится почти невыносимой. Странное дело, но этот мертвенный привкус холодного
металла - фон небытия - это тоже некий хельсинкский лейтмотив, лишь теперь становящийся явным, проступающий
дополнительным ракурсом пережитого. Это и тень каски на вокзальной башне Сааринена, и серые полуголые нахмуренно
холодные бестии Викстрема перед тем же вокзалом, мощные обнаженные тела "Потерпевших кораблекрушений" Стигелла
рядом с Обсерваторной горкой с таким нордическим, вагнерианским героико-оптимистическим трагизмом, это и угрюмо
торжественное величие и чуть выспренняя жестокость сонковских вертикалей в складском "дворце" Варранттитало и
жилом доме на Катаянокке с мемориальной доской о никогда не жившем там поэте - все возрастающая разреженность серого
воздуха его зданий - все возрастающая их возвышенность, высота - заканчивающаяся заатмосферным морозом безмолвного
ястребиного крика безглазого Агриколы; и как демонстративен (театрален) этот переход от национальной романтики к
цвету крови, когда прямо напротив красного собора 1935 года вас приветствует полуигрушечная, пока лишь играющая в
седовласых сказителей и бесстрашных воителей Больница Эйра, возведенная тем же Сонком за тридцать лет до
умерщвляющего звук и свет Агриколы, когда все это еще именовалось "национальным возрождением", а нибелунги еще
не покидали театральных подмостков. Здесь все суровее и холоднее, чем в Германии, нет тамошней помпезной монотонности, нет этой нацистской ясности и
пошлости. Здесь все слишком серьезно - и так просто, патетикой и публицистикой от этого не отмахнуться. Можно даже
любить эти жесткие немецкие марши, этот резкий немецкий язык - испытывать к ним пристрастие: не говоря уже об этой
грубой и возвышенной архитектуре. Дело не в женской зачарованности силой, это неотъемлемая часть ее "повадки",
его необходимый ракурс. Невидящий, погруженный в себя, погружающийся в землю, а не вырастающий из нее (вот еще "смысл" той ложбины, что
деформирует ракурсы) Агрикола, его запечатанные уста: чем же еще говорит здание, если не окнами, если не своей
отверстостью миру - его крест, уже готовый стать орлом, - это ли не предостережение всем тем, кто так устал от разума, от
логоса - и мне, с моим стремлением к границе смысла - хоть бы одно окошко, хоть бы капельку света, тепла... И твоя
неиссякающая речь чем-то сродни молчанию - она тоже лишена тепла, она "без окон", - без ответа - есть в этом нечто
нечеловечески искусственное, нечто чересчур возвышенное, разреженное, где трудно дышать. Эта речь, водопад речи,
даруемый вместо воздуха, вместо тепла, вместо прикосновения, царапает легкие, обжигает холодом, а на бумаге застывает
окончательно - застывший водопад речи - пусть ты и говоришь о читающем, пишущем шаге. Немота, безглазость - и эта речь
без конца, без взгляда, без оглядки - и это предвкушение без желания, это переживание движения без самого движения -
становятся если и не синонимами, то разными ракурсами одного и того же одиночества. Тепло - это кожа , это осязание,
прикосновение, это чей-то ответ, а не аутичный, никогда не завершающийся жест, не погруженное в себя и только в себя "ощущение
тяжести", не холодная, заоблачная музыка терменвокса. Да и откуда ждать тепла? - ты на севере. Ты на севере стал - ничем. "Вот попрошу у холерных гранитов на копейку -
египетской кашки, на копейку - ..." И опять с отчаянной ясностью сознавать, что все это лишь цитаты, лишь метафоры, нереализованные, нереализуемые: ведь нам здорово повезло с погодой, было по-летнему тепло, наоборот, мы отогревались после бездарного безобразия нетопленых питерских квартир, на улицах попадались даже люди в шортах - переживание холода не "реально", это не кожа в пупырышках, не зябкое поеживание и ускорение шага - это опять "умный" холод, внутренний, не достигающий границы тела - но может быть здесь, именно здесь, на севере, только в этом и было (в этом и есть - и для меня) спасение: движение должно быть приостановлено, вывод не должен быть сделан, точки над i не должны быть поставлены: мы-то знаем, куда ведет этот путь - этот Geist, эта Sehnsucht, эта Unheimlichkeit - эта холодная, уединенная, логос, рацио презирающая слепота - она не должна дойти до границы тела, выйти за его границу: продолжающим руку орудием насилия, насилием прикосновения - она не должна выйти на поверхность, как эти скалы, выскальзывающие из-под травы, не должна стать тривиально поверхностной. И ведь Финляндия все-таки избегла фашизма, избегла его "буквальности", реализованности его ницшеанских метафор. При том, что эта немногословность на грани - и за гранью - молчания, эта суровость, неулыбчивость, холодноватая
разреженность одиночества, сюда не привнесены, это не выдумка реставраторов несуществующей старины - а скорее,
напротив, общее место в разговоре о Финляндии. Еще по дороге в Хельсинки я обратил внимание на странноватую особенность стандартных финских деревенских домов: в
торцовой стене было всего одно, несимметрично, с одной стороны только вырезанное окно. Это связано, по-видимому, с
северной бережливостью по отношению к теплу, которое уходит именно через окна. (Хранить тепло внутри? Сомнительная
рекомендация...) И если в классицистических зданиях Энгеля трудно усмотреть какую бы то ни было "малооконность",
то финский модерн очевидно ориентирован как раз на подобную модель. Особенно характерны опять-таки башни: узкие, едва
заметные "бойницы" Национального музея, не отличимые от орнамента прорези церкви Каллио: да нет, не тепло они
сберегают - они охраняют одиночество. А как легко в Хельсинки найти место для уединения: взять хотя бы те укромные
скамеечки на восточной оконечности Катаянокки, голые скалы Свеаборга, до которого всего пятнадцать минут на катере;
да и это не обязательно, те же скалы и валуны, та же тина и одичалость - в пяти минутах ходьбы от Агриколы, за мемориалом
в память об утонувших моряках. Именно у этого памятника мы стали свидетелями странного "представления". Мы входили под склоненные лепестки
монумента (как же без этого - "клаустрофилия"), и я чуть не запнулся о какие-то нитки в траве - перешагнул - и увидел
сосредоточенно что-то разматывающего и складывающего парня. Поодаль лежала - доска не доска, а какая-то неширокая
выгнутая фанерка. И только когда парень вскочил и дернул за нитки, я понял, что эта фанерка должна изображать
воздушного змея - то, что такая конструкция способна летать, представлялось абсолютно невероятным. Естественно,
фанерка едва ли секунду потрепыхалась на ветру и с быстрым хлопком ударилась о землю. Парень собрал нитки, снова их
расправил... И пока мы, оборачиваясь, шли прочь от берега, все раздавались, с маниакальной регулярностью, те же
безнадежные хлопки. Парень был совершенно отрешен ото всех и ото всего, кроме своего нелетательного аппарата, он был
погружен в себя, хотя вокруг было немало зевак, включая и нас... - Хельсинки - город интровертный, город одиночества,
город, знающий цену уединению, город погружения в себя, погружения в землю, сползания в воду. Даже такой штрих, о котором мне и прежде говорили многие, побывавшие в Хельсинки - и он на ту же тему, о том же: на улице
невероятное количество людей с сотовыми телефонами. Они повсюду, эти, будто сами с собой разговаривающие студенты,
домохозяйки, клерки, праздношатающиеся: и это тоже образ одиночества, а вовсе не коммуникации, недаром поначалу
кажется, что просто весь город сошел с ума: они идут, без спутников, без сопровождающих, размахивая руками, похохатывая,
возмущаясь, уговаривая, и черная маленькая трубка почти неразличима в "зачем-то" поднятой к уху руке. (Может быть
и моя речь выглядела столь же безумной - она и сейчас остается столь же безумно акоммуникативной, хельсинкской). Тем убедительнее отрешенность Агриколы. Это не "красноречивое молчание", не пауза в монологе, не умышленно
эффектная синкопа: глазницы зарубцевались, лишь мышечные подрагивания и сокращения в том месте, где могли бы быть
веки - кинестетические переживания вообще самые аутичные, их потому и нет в стандартном перечне пяти чувств, каждое из
которых так или иначе связано с приемом сигналов из внешнего мира: звук, свет, вкус, запах, прикосновение - а
кинестетическое переживание только мое, полностью погружено в меня, это я и только я, оно ни в чем и ни в ком, казалось
бы, не нуждается. И становится понятно, почему именно эти переживания с первого же дня окрасили мое восприятие
Хельсинки - города-аутиста, города, одиночество лелеющего и оберегающего. (Боже мой, как все-таки опасно письмо: вот уже все почти выстроилось в цельную и последовательную систему. Охватывает
отчаяние, смешанное со странным удовлетворением, от того, что эти разрозненные "бревнышки" как будто сами собой
складываются в подобие настоящего игрушечного дома. Ты не можешь (твоя речь не может) остановиться на полпути, речь о
неприкасаемости выходит за пределы невнятных ощущений, ты хотел избежать касания, но делаешь это письмом, далеко
уводящим тебя от погруженности в себя, делаешь это, касаясь авторучкой листа бумаги, касаясь пальцами клавишей
компьютера - но одиночество этим касанием только усугубляется, костенеет, замерзает. Потому что - и вдруг это
становится ясно до судорог - единственный момент, когда одиночества нет - вернее, возникает намек на возможность иного,
возможность иначе - это мгновение стеснения и напряжения, стремящегося вовне, но не доходящего до цели, мгновение,
когда ничего еще нет - а значит, брезжит некий просвет, некий проход, обманчивый, скорее всего - выхода, ответа нет и
быть не может, но само мгновение надежды, сама возможность... А то, что происходит потом, - а обязательно происходит что-то,
хотя бы письмо, которым завершается вся эта невнятная кинестетика - разрушает эту возможность - и ты снова и снова
силишься ее оживить. И нет сил, чтобы бросить эту, в сущности, жалкую игру: в который уже раз возвращаюсь к этому тексту,
протягиваю и тут же отдергиваю руку.) А по поводу одиночества был еще один "эпизод" - уже ближе к концу нашего путешествия. На привокзальной площади (нет,
на площади Раутатеентори - доставим себе еще раз эту чисто артикуляционную, даже, скорее, опять же кинестетическую
радость: я ведь ничего не произношу сейчас вслух - радость, смыслу, обладанию смыслом, обладанию - не причастную), на
этой площади прямо перед театром стоит памятник одному из финских классиков, Алексису Киви - тому самому, что в
действительности не жил в том доме, построенном Сонком на Катаянокке (он жил в доме, что стоял прежде на том же месте:
очередной пример "выдуманной подлинности" финского прошлого). Поэт сидит на какой-то скамеечке, весь как-то
скрюченный, одно плечо вздернуто, другое опущено, правая рука безвольно лежит на колене, даже не лежит, а спадает,
изгибаясь, нога закинута за ногу, но обе как будто слегка вывернуты, туловище развернуто чуть налево - за левой рукой,
закинутой за спинку сидения, голова склонена, он будто бы сжимается, хочет "стесниться", стесняется - или
отвернуться - от театра, от вокзала, от дурацкого, надуваемого специальными вентиляторами пятиметрового чертика,
который колбасится, свивается, изгибается невдалеке; именно не "скрюченность", а "отвернутость",
отверженность, тело свивается, изгибается, чтобы замкнуться, вывернуться наизнанку, уйти в себя. А на постаменте, как я
узнал позднее, написано стихотворение "Тоска"; а как же иначе, тоска, конечно, разве что финская... Странное дело, даже этот вполне реалистичный памятник "кинестетичен", переживается телесно - зрение уводит
смысл внутрь тела, "интериоризирует" его в предощущение склоненности и стесненности. Это памятник хельсинкскому
стеснению, хельсинкскому одиночеству - посреди просторной и шумной театрально-вокзальной площади - площади приезда и
отъезда, площади лицедейства... Занавес, господа, занавес. Вот он с глухим водопадным гулом просыпающегося города медленно отрезает эту крохотную трехдневную сцену от жизни, от ее копошащегося зала. Мы уезжаем рано утром, я один, на прощание пробегусь вниз по Силтасааренкату, оглядываясь на серую вздыбленную громаду Каллио, по... И вот, что удивительно, я помню, как шел, быстро сворачивая на улицы, на которые мы не успели заглянуть вчера и позавчера, помню, как выбежал к вокзалу, помню, как пошел по шумной Маннерхейминтие, как заблудился - единственный раз за эти три дня! - и спросил, в отчаянье, как пройти к Зоологическому музею, где была назначена встреча - и, проскользнув между зеркальных стен то ли гостиницы, то ли универмага, был, запыхавшись, на месте за две минуты до условленного времени - но я не могу вспомнить, не могу назвать ничего, что я увидел во время этой утренней пробежки - хотя, совершенно определенно, было нечто, останавливавшее взгляд, нечто новое. Все дело в том, что я молчал, я был один, взаправду один, буквально, не метафорически - без зрителя - без слушателя - инакость которого, присутствие которого одушевляло этот театр речи, театр ракурсов - в чьем присутствии, чьим присутствием, чьей инакостью он только и жил, только и мог жить: город напоследок, под занавес одаривал меня тем одиночеством, которое я в нем разгадал, но теперь уже самым настоящим, "реализованным" - и немотой настоящей, не архитектурной - и это означало конец путешествия, конец текста, его настоящий распад в небытие бессловесной тяги и стесненности; лишь слабым шлейфом: тревога, легкая паника, тяжесть ненужной куртки, пыль какой-то стройки, вспрыгивание на поребрик у автостанции, и как я снимал рюкзачок с одного плеча, чтобы достать карту - все это осталось, но как бы рассыпанное, ослепшее, как будто я сам оказался вдруг вытолкнут, выжат из этого города - онемевший - не с самим же собой разговаривать, не самому же себе рассказывать, в самом деле - слепоглухонемой, как Агрикола - и потому бессмысленно тыкающийся в стекленеющий воздух, заблудившийся там, где уже столько раз - вдвоем - проходил - заблудившийся, потерявшийся в суете уже ненужных, темных, неосмысляемых, смыслу неподвластных движений... Анатолий Барзах |









|
Партнеры: |
| Журнал "Звезда" | Образовательный проект - "Нефиктивное образование" |